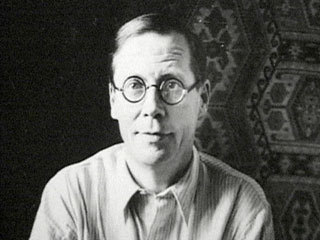Наверняка знал — при его-то юморе — что начав автобиографические «Заметки о моей жизни» с того, что русских классиков впервые обнаружил в мешке, который его отец приволок в дом (классики вместе с мешком потянули на рубль-шестьдесят) с тем, чтобы пустить бумагу на кульки для семечек («моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек»), — знал советский классик, рассказывая эту историю в 1958 году, что отныне все его биографии будут начинаться с этого мешка.
Наверняка знал — при его-то юморе — что начав автобиографические «Заметки о моей жизни» с того, что русских классиков впервые обнаружил в мешке, который его отец приволок в дом (классики вместе с мешком потянули на рубль-шестьдесят) с тем, чтобы пустить бумагу на кульки для семечек («моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек»), — знал советский классик, рассказывая эту историю в 1958 году, что отныне все его биографии будут начинаться с этого мешка.
Впрочем, возможен был и другой путь: «Всю-то юность мечтал я прожить с циркачами», а пришлось «стихотворенья писать».
Не станем же нарушать традиции.
Итак, мешок макулатуры. Отцу поставлено условие: «книги пойдут на кульки только после того, как я их прочту».
Прочел, сел и за два часа написал роман из собственного опыта. Полтора десятка лет уложились в две с половиной страницы крупными буквами… впрочем, название романа («Ольга Мифузорина» — единственное, что автор сохранил в памяти) говорит не столько об опыте, сколько о чувствах, уносящихся во области заочны.
Иначе отпрыск кустаря Шейнкмана вряд ли вцепился бы в извлеченные из мешка тексты Пушкина и Лермонтова, по ходу чтения которых он узнал, что оба поэта убиты на дуэли.
Остальное начертано в книге судеб. 1917 год — первое стихотворение в местной газете. 1919 год — вступление в комсомол… и первые должности: завотделом печати губкома комсомола и главный редактор комсомольского журнала «Юный пролетарий»… Шестнадцати лет от роду — главный редактор! Вовремя рождается поколение: двадцати лет от роду — первая книжка…
Между этими литературно-идеологическими вехами — Гражданская война.
Разумеется, территориальный пехотный полк формируется в Екатеринославе не ради того, чтобы его новобранцы могли писать в анкетах об участии… хотя именно факт участия в гражданской войне отчеркнет поколение счастливцев, «родившихся вовремя», от их младших братьев, опоздавших к драке. Полк собран для борьбы с бандами, гулявшими в округе. И стреляют там отнюдь не холостыми патронами. Но вопрос в том, что именно рассказывает об этом поэт.
Он рассказывает, как ошпарил руки кипятком и не смог заступить на пост, за что получил пару суток гауптвахты, на каковую был конвоирован в «жуткую даже по украинским меркам жару».
— Миша, — сказал конвоир, — я задыхаюсь. Понеси ты винтовку.
Так и пошли до места, меняясь ролями: конвоир — начинающий поэт, очень застенчивый, взявший псевдоним Тихий — и арестант, начинающий поэт, успешно прячущий застенчивость под насмешливостью, — взявший псевдоним Светлов[1].
Светлов, надо сказать, штудирует не только старорежимную «Ниву» (не говоря уже о классиках, добытых из мешка), он явно в курсе исканий новейшей лирики, о чем свидетельствует в самом раннем из стихотворений, включенных впоследствии в Собрание сочинений, — щегольская рифма: «Между глыбами снега — насыпь… да мерцающих звезд чуть видна сыпь».
Очень скоро снежные метели и мерцающие звезды отступают перед молотами, трубами, котлами и девичьими прелестями краснокосыночной эпохи, — и рифмы весело ложатся в новый узор: «Ранним утречком напевы чьи принесла из Комсомола ты… Два котла, как груди девичьи, белым соком льют на молоты… Ох, и дразнят, окаянные, от лучей весенних пьяный я».
С этим багажом в 1923 году екатеринославский губкомоловец, ставший пролетарским поэтом, приезжает в Москву и, поселившись в молодежном общежитии на Покровке, покоряет столицу.
В полном соответствии с символикой веры счастливого поколения он славит классовые праздники и замахивается буденовкой на звериный образ прошлого. Он славит доброту Ленина и искренне горюет о его кончине. Он готов в одной строке восславить Либкнехта и Губпрофсовет, чтобы пролетарские зоилы не усомнились в его сознательности.
Улыбка, не чуждая загадочности, прикрывает у Светлова вовсе не оппозицию, протест или сомнение, она прикрывает — веру!
Он (по его позднейшей автохарактеристике) все «выдумывает, но не так, как фокусник, а то, что есть на самом деле».
На самом деле происходит преставление светов. И он действительно мечтает, чтобы вновь послышался родной пулеметный стук, и артиллерия новым выстрелом полыхнула по Западу, растянув фронт на всю Европу. Он готов «окровавить зарею осыпанный снегом закат». Он обещает подпалить синагогу, если будет «надо». Он хочет «схватить зубами» время, пусть и с риском, что зубы ему выбьют.
Но выбитых зубов не видать. Даже там, где описаны «распухшие трупы», разбросанные по «голому городу», «и рваный живот человечий, и лошадь с разорванной мордой, и человеческих челюстей мертвый, простреленный скрежет», — даже в таких сценах не достигает Светлов ни той картинной ярости, с которой живописует подобные сюжеты Сельвинский, ни той неподдельной ненависти, которая клокочет и поет у Прокофьева. При сходной фактуре у Светлова другая исходная нота.
Эта нота — одиночный человеческий крик, мягко вплетенный в грохот эпохи. Человек стоит на посту у порохового склада и готов выполнить приказ, и спрашивает: «в кого стрелять?», но… слава богу, не стреляет. Оказавшись на море, он видит, как «взволнованно проплыла одинокая рыба-пила», и как следуют «четырнадцать рыб за ней, оседлавши морских коней»; в принципе он готов плыть в общем потоке: «готов отразить ряды нападенья любой воды…», но: «…оставить я не могу человека на берегу».
Милое косноязычие («нападенье любой воды» — это что: наводнение?), почти не портит стиха, потому что органично для души, которая желала бы «встать поперек», но понимает, что это все равно не получится. «Ну и пусть. Значит, так велено… Не в своих руках человек… Тонких губ сухие расселины для жалоб закрылись навек».
А жалобы все-таки просятся на язык? И даже крики? А «сверкающие крики комсомольца» можно «перелить в свинцовые стихи»?
Можно. Только все-таки они не свинцовые. Мешает трещинка в голосе, тихий сбой тембра, «ямочки» на пути.
«И в час, когда лихие звоны перекликались на борьбу, я видел красные знамена и пару ямочек на лбу». Это — в стихах, обращенных к работнице. Спрашивается, какие на лбу ямочки, они ж на щеках… Но такая картавость стиха трогательна.
Светлов вовсе не ратует за отдельного человека в противовес массе. Он в массе слышит отдельного человека. Он его жалеет, но спасти не может. Отсюда горечь, ирония, «печаль на пиру», улыбка в безнадежности, усмешка в надежде[2].
Сообразно особенностям взгляда выстраивается картина мира — от контактов с «меньшими братьями» до перекличек с человечеством.
Маяковский жалеет котят и лошадей. Светлов являет милость «клопиному стаду». В симфонию всесочувствия вплетается еле уловимая фарсовая нота.
Есенин жалеет жеребенка, которого обгоняет на железных путях стальная конница. Светлов вроде бы подхватывает мелодию: «Кинув вожжи в скучающий вечер, бронированная лошадка мчится…» К кому тут жалость? К паровозу! Ему «в депо чинят лапу», он «фыркает в небо», его «запертый в клетку гудок» дико «требует свободы»… И идет этот паровоз «по трупам шпал»…
Не надо искать в этих картинах ни плача по деревенской Руси, ни гимна индустриализации. Здесь ни то, ни другое, а — все то же: грусть на пиру, улыбка у пороховой бочки.
Русь, надо сказать, присутствует в ранней лирике Светлова, вполне совпадая с той кондовой, избяной, толстозадой бабищей, которая эффектно обыгрывалась Бухариным применительно к Есенину. У Светлова все мягче и деликатней, но картина та же: Русь засиделась в девках, заспалась под снегом, ее тащат в будущее большевики, а она не дается. «Русский утром встанет рано, будет снег с крыльца счищать, в полдень он напьется пьяным ночью шумно ляжет спать». Вождь большевиков в этом контексте приобретает еле ощутимые скоморошьи черты: «Всю премудрость книг богатых он в Россию натаскал, как учил его когда-то бородатый немец Карл».
В этой тяжбе старого и нового отчетливый голос получает, однако, у Светлова не немец Карл, а еврейский ребе, который до революции в хедере учил мальчика Талмуду, а теперь «спекулирует на базаре прелым табаком». Однако он не вызывает ни отвращения, ни ненависти, «мой маленький ребе», он вызывает — жалость. «Старое сердце еврейской тоскою больно». И однако: «Если победе путь через ад, явится в хедер гостем снаряд» — с одобрения того самого мальчика, которого старый ребе учил «не говорить слишком громко».
Он и не говорит громко. Он говорит тихо: «Мой задумчивый, мой светлый Комсомол».
Достаточно вспомнить, с каким громоподобным неистовством отрывает себя от еврейского быта Багрицкий, чуть не оскорбительными определениями этот быт сопровождая (так что мать вынуждена вмешаться), — и можно-таки оценить тонкость светловской мелодии.
Всем своим сверстникам, великим поэтам Октябрьского поколения, он проигрывает в мощи. И у всех выигрывает — в тонкости, в каком-то неуловимом обертоне. Посреди лихой и веселой эпохи его «узкое и скорбное лицо» обращено к чему-то, что выше и Руси, и еврейства, и даже советской текучки, где «получают копейку за вздох и рубль за строку оптимизма».
«Вздох» Светлову дороже всего. Даже если не очень ясно, кому (или чему) послан вздох. Но уж точно не тому, что наличествует в реальности.
В реальности изначально выделяются у Светлова два действующих героя. Один — Ванька, «больной, изнуренный венерик», вор-щипач, арестант, пьяница; другой — Васька, бандит, анархист, антихрист.
Кто противостоит этому двуликому образу расейской расхристанности?
Не смейтесь: Джон.
«Трубы, солнцем сожженные хрипло дымят в закат. Думаешь: легко Джону — у станка?»
Наверное, в екатеринославских цехах имелся и такой пролетарий, и списан он с натуры (как с натуры списан Ванька-Васька, гулявший по округе). Но ничего британского, американского и вообще западного в этом пролетарии нет. А есть — нечто планетарное: в финале стихотворения, «Джон и Васька вдвоем идут», неся «пятигранную звезду Коминтерна Молодежи». Так что поэтически важно не то, что — Джон, а что — нездешний. Не от мира сего, — если понимать мир сей не в религиозном, а в единственно важном для Светлова нравственном плане: непримиримое и несовместимое в этом мире — примиряется и совмещается где-то в запредельности.
И там — «тот, кто бил и громил меня», называет меня «своим близнецом». И не тихой смуглой «девушке моего наречья» (то есть еврейке) отдает герой руку и сердце, а светлоглазой полячке, прадед которой выдирал пейсы у деда этого героя. Можно сказать, что перед нами запредельное торжество интернационализма, отказывающегося слушать голос крови. А можно и так:
Оттого ли, что жизнь моя отдана
Дням беспамятства и борьбы,
Мне, не имевшему родины,
Родину легче забыть.
Забыть малую родину ради той любви к человечеству, которой мечено все поколение — первое собственно-советское поколение «счастливцев».
У Светлова эта вера приобретает карнавальный оттенок, но чудо состоит в том, что именно этот оттенок, этот делающий музыку обертон попадает в резонанс мировому карнавалу, где «кровь меняется каждый век», православный колокол плачет медными слезами рядом с обреченной синагогой, и алжирские «рифы», которые «взяли Уэндсмун», оказываются важнее всего на свете[3].
Можно написать простое и трогательное четверостишие:
Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.
И это четверостишие обретает мировой отсвет, когда попадает в мировой контекст, когда наши девушки предстают вариацией Жанны д’Арк, перекликаясь с «веселым ножом гильотины», ищущим «шею Антуанетты». Веселое дело! На миру и смерть красна…
Мир съезжает с орбит. Маршруты взлетают и падают. Московский поэт идет по Тверской улице и во дворе видит вывеску: «Ресторан Гренада».
Этого достаточно!
Испанский трактир на Тверском тракте! Испанская волость в считанных шагах от Кремля! Это не столько удивляет, сколько разжигает воображение. «Был бы механизм, а кнопка всегда найдется». Гренада, серенада… Серенада у кинотеатра «Арс»… в московском трамвае… перед дверью московской коммуналки…
Перед дверью ключевая строчка уже готова: «Гренада, Гренада, Гренада моя!.. «
Строчка, таящая в себе заводную мелодию, хочет «разбежаться» на целую балладу. Она требует сюжета. Кто здесь может петь испанскую серенаду? Испанец? Примитивно. Петь должен свой. Свой — в воображении Светлова — это какой-нибудь екатеринославский хлопец, вроде того тихого, из губкомовских, который конвоировал поэта, неся с ним попеременно единственную на двоих винтовку, или вроде того разговорчивого, из махновцев, которого конвоировал сам поэт и, пожалев, отпустил на волю.
Воображение начинает выдумывать то, что было и есть на самом деле. Так получает выход то настроение, которое накоплено в авторе и его реальных собеседниках, чудесным образом перелетевших вместе с ним из степи украинской в «степь» испанскую:
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Светлов не знает, не может знать, что через десять лет на этих испанских камнях закипит такая же лютая гражданская война, какая кипела на его родине, само понятие родины будет передислоцировано в классовые окопы, и на могильном камне венгра Матэ, явившегося в Испанию защищать коммунизм, будут выбиты, а потом фашистами разбиты слова, фантастически угаданные за десять лет до событий:
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные,
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Кровь, сквозившая за строками комсомольских лозунгов 1921 года, пропитывает строки 1926-го, звучащие реквиемом, и гениально обрываются там, где должен зазвучать победный клич… В поэзии такое попадание бывает раз в жизни:
Пробитое тело
Наземь сползло.
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена…»
29 августа 1926 года балладу публикует «Комсомольская правда». Наутро автор «просыпается знаменитым».
Маяковский говорит ему:
— Светлов! Что бы я ни написал, все возвращается к моему «Облаку в штанах». Боюсь, что с вами и вашей «Гренадой» произойдет то же самое.
Это и происходит. Незнакомые люди, узнав, кто перед ними, восклицают:
— А, Светлов! «Гренада»!
Полтора десятка лет спустя, на передовой Первого Белорусского фронта, куда Светлов проникает почти контрабандой (по состоянию здоровья его на фронт не берут, но корреспондентам закон не писан), — и вот этот нелепый корреспондент бродит между окопами, которые он называет «ямочками», и вдруг слышит:
— Майор! А майор! Это правда, что вы написали «Гренаду»? Как же вас сюда пускают?
В 1944-м на месте «Гренады» уже и «Каховка», и «Итальянец». Но именно «Гренада», переведенная на десяток языков (и не только профессиональными переводчиками, но и простыми бойцами, и зеками!), ставшая неофициальным гимном интернациональных бригад, а потом французских макизаров, а потом узников Маутхаузена, — не говоря уже о нескольких поколениях советского комсомола, — сделала Светлова живым классиком.
Это не значит, что он был избавлен от экзекуций, которым в стране Советов подвергался каждый мало—мальски заметный литератор, отваживавшийся подавать своим читателям советы по части жизни. Светлова прорабатывают — и за стихи, и за пьесы, которые он начинает писать уже признанным поэтом (первую же из них, раскритикованную в пух и прах, даже снимают с репертуара). Можно составить маленькую антологию из стихов, в которых Светлов отшучивается от обвинений. И пьесы он продолжает писать (целый том накопится за десятилетия работы). И, несмотря ни на что — ликующий поток стихов радужным фонтаном переливается из 20-х годов в 30-е.
Чуть не к каждому очередному юбилею Октябрьской Революции — стихотворное приветствие. В 1927: «Труби… десятая труба!» В 1930: «Встает годовщина, тринадцатой домной горя». В 1931: «Гудят четырнадцать Октябрей». В 1933: «Мы тебя навеки зацепили за шестнадцать крепких якорей». В 1934: «До семнадцати твоих высот дотащить бы выдумку свою!»
Все это могло бы показаться элементарной конъюнктурщиной, если бы не… выдумка: изобретательность талантливого человека, искренне верящего в то, что он говорит, и действительно тратящего на эти ортодоксальности глубинные запасы души.
Он позволяет себе воспевать что угодно. Автодор и Могэс. ЧК и ОГПУ. Вождей, которые просто, «как друзья, руки нам на плечи положили» (это в 1932 году!). И при всем том Светлов умудряется невозмутимо оставаться «в стороне от парада». Он может обозревать рубежи общего фронта от Нанкина до Шепетовки и от Хабаровска до Полтавы, уточняя, что сам он нигде там не был и вряд ли будет. Но ведь границы упразднены революцией! «Я не знаю, где граница между Севером и Югом, я не знаю, где граница меж товарищем и другом…» Следующее поколение, всерьез воспринявшее идею насчет Севера и Юга, ринется дойти до Англии (на чем и подорвется). Но у Светлова есть защита: юмор. «Я не знаю, где граница между пламенем и дымом, я не знаю, где граница меж подругой и любимой». Но дыма без пламени не бывает! Меж подругами и любимыми можно разобраться, не разжигая мирового пожара, но когда Светлов разворачивает Котовского «с Востока на Запад», то есть от Шанхая на Краков, это дело становится серьезным, и спасение только в том, что нет границы между походным призывом и веселой песенкой.
Боевой «Ундервуд» стучит как в юности, бывало, стучал пулемет. Боевая труба наклоняется, как палач, над приговоренной к казни мандолиной… Эта мандолина — явно принадлежит тем «пижонам», которые у Маяковского «мандолинят из-под стен», а вот труба — общая принадлежность поколения, которое Светлов гордо называет стальным… может быть, оттого, что в своей душе стали не чувствует.
И по-прежнему он не в бою, он — в карауле. На часах. У ворот воинского склада. «Советские пули дождутся полета… Товарищ начальник, откройте ворота». Но товарищ начальник приказывает товарищам подчиненным (в частности, наркому Литвинову) сохранять выдержку, а поэту-часовому — ждать своего часа. Поэту «не терпится в боевом огне пролететь, как песня, на лихом коне», но приходится «сидеть тихонько». Не сидится ему! «Вот ты думаешь, что я чудак: был серьезен, а кончаю шуткой. Что поделать! Все евреи так — не сидят на месте ни минутки».
Юмор изменяет ему в вопросе о еврействе. Еврей у Светлова назло антисемитам становится… хлеборобом. Само по себе это нормально, но результат? «Назови его только „жид“ — он тебе перекусит горло». Перекусывание горла — не путь к решению проблемы, и Светлов избирает другой путь. Поэма «Хлеб» — единственное произведение 20-30-х годов, где он ставит эпическую задачу, и решается она на грани курьеза.
«Кочевой гражданин неизвестной страны» (еврей) и «атаман бесшабашный» (погромщик), постарев, встречаются в чаемом будущем. «Здравствуйте». — «Очень рад». Игнат Петрович перед Моисеем Самойловичем извиняется за погромы: ошибочка вышла. «И сидят старики вдвоем, по-сердечному разговаривая…»
Достаточно сопоставить эту идиллию с «Думой про Опанаса»: с тем, какой кровавой горечью оплачивает Багрицкий еврейское участие в украинской смуте, чтобы светловский «Хлеб» показался эрзацем[AK1]
Это и впрямь какая-то сказочная синекдоха: «Отблеск маленькой революции и пожар большого погрома». Или библейская подначка? «Наблюдая полет ракет, Моисей подходит к реке, с красным флагом в одной руке, с револьвером в другой руке». А может, скомороший бред? «Буду первым я в жестокой сече. С вытянутой саблей поперек… Мы еще поскачем, Моисейчик, мы еще поборемся, браток!»
«Поперек», как мы помним, надо держаться с осторожностью. Ибо не всегда понятно, поперек чего оказываешься. Моисей Либерман у Светлова стоит на запасном пути в ожидании боевого сигнала. «Посреди болотных пустырей он стоит, мечтательность развеяв, — гордость нации, застенчивый еврей, боевой потомок Маккавеев».
. Что тут сказано безошибочно: «застенчивый». Это ключевое слово светловской лирики. У него и большевики — застенчивые, сентиментальные, задумчивые, и боевой потомок Маккавеев явно не избавился от такого груза. Этот оксюморон: застенчивость в боевитости — объясняет нам не только вечное ожидание трубного гласа, дежурство у двери склада, стояние на часах, пребывание в боевом резерве, но вообще открывает нам секрет светловского обаяния.
Пользуясь формулой, подсказанной им самим, — он все время выдумывает то, что есть на самом деле (исключение — еврейский вопрос и братание с погромщиками). Он все время делает вид, что шутит, меж тем, как переживает всерьез. «Оттого, что печаль наплывает порою, для того, чтоб забыть о тяжелой потере, я кровавые дни называю игрою, уверяю себя и других… и не верю».
Но он верит, и именно поэтому другие ему верят: принимают правила игры. Бомбы у него — бубенчики. Сумасшествие — высший разум. Это — про Коммунистический Манифест! К очередному юбилею. «Призрак бродит по Европе, он заходит в каждый дом, он толкает, он торопит: «Просыпайся! Встань! Идем!» И такие шуточки сходят с рук! Потому что это сумасшествие — игра. Игра, которая пародирует реальность, смягчает, приручает безумие эпохи.
. «Я — крупнейший в истории плут и мошенник». Не верьте: он не плут и не мошенник, он — выдумщик, говорящий правду. Он проходит сквозь «злые времена» с улыбкой. Он отвечает смерти; «Спасибо». И в любую минуту его застенчивая интонация готова обернуться сигналом, пронзающим миллионы сердец.
Поводом, как мы уже видели, может послужить что угодно. Заказ песни для очередного кинофильма. Он пишет текст за… сорок минут. Да разве такое возможно? Отшучивается: «Сорок минут плюс вся моя жизнь».
Так рождается шедевр, в котором, как в фокусе, собрано все.
Каховка, Каховка, родная винтовка…
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —
Этапы большого пути…
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути.
Именно «Каховку» вспомнил лейтенант, окликнувший майора Светлова под обстрелом в 1944 году. Но до того времени от 1935 года — почти целое десятилетие.
Война гасит игру. В двух патетических поэмах 1942 года — о двадцати восьми панфиловцах и о Лизе Чайкиной — обнаженная боль не дает засветиться тому юмору, который всегда выделял Светлова из общего ряда[4]. Эти поэмы встают в общий ряд — с «Зоей» Маргариты Алигер, с прокофьевской сагой о Шумовых, с «Сыном» Антокольского (уступая последнему в мощи).
А все-таки талант великого выдумщика и в это тяжкое для выдумки время поворачивается чисто-светловской гранью. Повод, как всегда, случайный: «Попалась фраза о Доне, что его течение не изучено. Мелькнула рифма: „излучина — не изучена“. Зачем мне она?»
Зачем — стало ясно, когда кто-то показал черный крестик, снятый на Дону с убитого итальянца.
Был февраль 1943 года.
Строка стала «разбегаться» в стихотворение:
Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?
Все правильно. Итальянец тут не пахал и не сеял. Его сюда — в эшелоне привезли. Закономерен финал: «Итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах». Третий шедевр поэта Михаила Светлова — «Итальянец»: филигрань точеных строк, за которыми таится какая-то неотгаданная загадка. Какая-то оборвавшаяся мелодия. Какая-то «рифма» — не поэтическая, а жизненная…
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
А почему не мог быть счастливым тот украинский хлопчик, которого когда-то понесло воевать в Испанию? Правда, Светлов сам там не воевал, и теперь это — довод:
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!
Рафаэля? Допустим. Но над священной землей Веласкеса — свистели. В том числе и пули того героя, который с Украины подался в Гренаду, чтобы отдать тамошнюю землю крестьянам. А где гарантия, что и «молодой уроженец Неаполя», привезенный в донскую степь, не собирался землю, отобранную большевиками под колхозы, вернуть русским крестьянам?
Стихотворение «Итальянец» звучит, как одиночный выстрел, он потому так и слышен в паузе общей канонады. «Нет справедливости справедливей пули моей». Да, но эхом откликается испанская грусть, наведенная такой же неистовой жаждой справедливости. Может, оттого и взлетает «Итальянец» в золотой фонд советской лирики, что по-прежнему скребет, саднит, кровоточит в нем мировая справедливость, ради которой летел трубный глас на другой конец Вселенной, и тощенький екатеринославский гимназист входил в нетопленные комнаты местного губкома комсомола, счищая на пороге с ботинок «целебную грязь эпохи»?
Живет та вечно молодая песня в сознании Светлова. Уже в больнице, умирая, он пишет приветствие своему сверстнику Александру Жарову, чья поэма о комсомольском преодолении косного деревенского быта прогремела когда-то на всю страну:
Пусть они обнимутся, как сестры, —
Моя «Гренада» и твоя «Гармонь»!
Последняя поэтическая строчка Светлова, — отзвук все той же «Гренады». До той строчки, написанной в сентябре 1964 года, от «Итальянца» — десятилетие.
Это десятилетие Светлов доживает уже в ранге патриарха (на каковой предмет неутомимо отпускает шуточки). «Советского подданства мастер, хозяин волшебных долин», он откликается на некоторые зовы повседневности. Например, на американскую агрессию в Корее. Замечает: «Врангель или Макартур — разница невелика» (тоже верно; правда, в молодости излюбленной мишенью был Деникин). По обыкновению, стихи предварены вздохом: я в этой Корее не был и никогда не буду.
При всей верности географическому безграничью — дух все больше ощущает вакуум — пустоту той самой Вселенной, которой по-прежнему присягает верный сын счастливого поколения. Старость — плохой спутник вечности. Пора прощаться со сверстниками.
С Луговским: «Я доволен судьбой, только сердце все мечется, мечется, только рук не хватает обнять мне мое человечество».
С Сельвинским: «Мы преодолеем все просторы, недоступного на свете нет! Предо мной бессильны светофоры — я всегда иду на красный свет».
С Антокольским: «Нет! Дыханьем спокойным и ровным мы не дышим! Пожар не утих. Пусть мелькают желания, словно рубашонки ребят озорных!»
Вот этим-то озорным ребятам и хочется рассказать, что «мы счастливей правнуков своих». Да как расскажешь? «Я бы вместе с ними рассмеялся — мне смеяться слезы не дают…»
Кому пожаловаться? Как Маяковский когда-то — Ленину? «Хочется без конца думать об Ильиче, будто рука отца вновь на твоем плече».
Мастер роняет строки, мгновенно становящиеся на крыло. «Там, где небо встретилось с землей, горизонт родился молодой». Или: «Сто молний, сто чудес и пачка табака». И эта: «Добро должно быть с кулаками»[5].
И главный, глубинный, может быть, единственный по-настоящему реальный мотив в песнях старого сказочника — тоска по комсомолу его юности. Вера, что это можно возродить…
Постой, постой, ты комсомолец? Да!
Давай не расставаться никогда!
Не белом свете парня лучше нет,
Чем комсомол шестидесятых лет.
Правильно было бы: «годов». Но в этом обаятельном косноязычии — весь Светлов. И сама Поэзия.
Он уходит, как донесшаяся из прошлого легенда. Закончу тем, что знаю не из печатных биографий (хотя они пестрят остротами, записанными с его уст), а тем, что сам услышал когда-то о чудаке, живущем в писательском доме на Аэропортовской улице.
Пришли юные авторы навестить больного. Преданно проговорили:
— Михаил Аркадьевич, вы — живой классик.
Михаил Аркадьевич собрал силы и поправил:
— Еле живой.
[1] Чтобы это литературное имя не показалось слишком пышным, через полтора десятка лет последовало объяснение:
«Близорукий губкомовец, вытянув тонкую шейку, взял анкету мою и застыл над графою «поэт»… — Ты неправильно начал, разве это фамилия — Шейнкман! Разве это оставит в русской поэзии след?..
Перебрали заливы, моря, города, перешейки. Как сомнамбулы ходят, от пышных имен обалдев. Что-нибудь, что-нибудь вместо проклятого: «Шейнкман», — Анатолий Каспийский, Константинопольский Лев…
Наконец натолкнулись и, перебирая архивы, окрестили «Светловым» — покойным редактором «Нивы»…
[2] Светлов отлично знает, кто ему осветил путь. «…Чтобы рассеять тишь, он зажег свет… „Миша, — спросил он, — ты не спишь?“ — „Генрих, — сказал я, — нет!“ Старого Гейне добрый взгляд уставился на меня… — Милый Генрих! Как я рад тебя наконец обнять!»
[3] Поди сообрази теперь, кто такие: не во всякой энциклопедии найдешь. Рифы (или риффы) — марокканские племена, сорганизовавшиеся в 1921 году в республику, которая была в 1926 году раздавлена колониальными войсками Испании и Франции. До всего ж мира нам было дело!
[4] Разве что в строках о панфиловце Сенгирбаеве: «Я никак не пойму, почему воевали с Россией татары».
[5] Именно Светлов придумал эту строчку и произнес ее в присутствии молодых поэтов Евтушенко и Куняева. У каждого из них строчка «разбежалась» на стихотворение. Евтушенковское забылось, а куняевское стало, как теперь говорят, знаковым.
[AK1]Недаром именно «Дума про Опанаса» стала главной мишенью Станислава Куняева при развертывании на рубеже 70-х годов дискуссии, в ходе которой русские советское самосознание впервые предстало как национальное. «Хлеб» выпал из того разговора, и хорошо: Светлов совершенно не годится для подобных разборок.