Восхождение к свету
Почему растет береза на разрушенной стене?
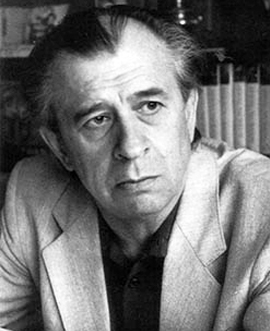 Его поэзия достаточно полно описана критиками. Его спокойная любовь к родной стороне справедливо противопоставлена и абстрактной энергичности умозрительных городских поэтов, и экзальтированному буйству новейших воителей за старину. Его прозрачный, звеняще-уравновешенный стих несовместим с демонстративной нарочитостью ни модернизированных, ни архаизированных «искусников», здесь царят простота и свежесть, простор и воля.
Его поэзия достаточно полно описана критиками. Его спокойная любовь к родной стороне справедливо противопоставлена и абстрактной энергичности умозрительных городских поэтов, и экзальтированному буйству новейших воителей за старину. Его прозрачный, звеняще-уравновешенный стих несовместим с демонстративной нарочитостью ни модернизированных, ни архаизированных «искусников», здесь царят простота и свежесть, простор и воля.
Жигулин верен себе и в своей новой книжке — в "Прозрачных днях«.Здесь «прозрачно, легко и морозно»; здесь — милая родина и прочная, ненавязчивая память, спокойные подмосковные и воронежские пейзажи, тихое и пристальное всматривание в судьбу.
Но эта книжка позволяет более глубоко понять внутренний драматизм жигулинской поэзии, ее философский пафос. Не потому, что книжка эта «иная», чем прежние, — она не «иная». А потому, что все предварительные слова о Жигулине уже сказаны. О нем говорили: смотрите — вот он спокоен, он не суетится, не спешит, не буянит и не машет кулаками — видно, он что-то знает.
Что же именно знает он о жизни? Какой урок вынесен из этого спокойного созерцания? Какой духовный опыт спрятан в этих звеняще-прозрачных стихах?
Первое, что нужно отметить в спокойном поэтическом мире Жигулина, — этот покой обманчив. Из умиротворенных пейзажей встает память о потрясениях. Тревожная символика пронизывает самое видение мира, поэтому мертвые елки на кургане для Жигулина — винтовки когда-то погибших солдат, а ласточки в небе — это их неупокоенные души. И узкие бойницы монастыря заставляют ждать гулкого выстрела... Это не «картина прошлого в обрамлении настоящего» и не «художественный контраст» тишины и взрыва, — это какая-то изначальная совмещенность жизни и смерти, покоя и бури, это внутренняя готовность к выстрелу, штыку и грому в любую минуту, это — трагический непокой души, созерцающей покойную природу. «Гулко эхо от ранних шагов. Треск мороза — как стук карабина. И сквозь белую марлю снегов просочилась, пробилась рябина». Так видит человек, ощущающий за прозрачной тишиной не только столетия кровавых исторических битв, но живую боль собственного опыта. Это не просто отзвуки драматической реальности, долетающие через тишину полей,— это пробивающиеся сквозь безмятежную несуетность мира приметы трагического самосознания. И «вечные» черты, какие видит в природе и в мире Анатолий Жигулин, — это не та покойная и невозмутимая вечность, которая по самому определению должна противостоять живой трепетности существа, дышащего «здесь и теперь», — нет, у Жигулина совершенно удивительный сплот этих начал, их соединение и столкновение, их взаимоупрек и взаимонужда; «трепетная вечность» — вот та странная истина поэзии А. Жигулина, которая и делает эту поэзию неповторимой.
В его стихах внешний мир прочен, природа неизменна и ясна, цвета и формы определенны, ритм размерен. Этот мир прорисован тонкими и четкими линиями, без всякой растушевки —это не акварель с ее переливами тонов, это скупой графический рисунок с двумя-тремя пятнами цвета (желтая скирда, красная рябина, синий ледок на реке). Но эти скупые пятна цвета лишь подчеркивают пустующий простор, и осеннюю обнаженность, и невозмутимое постоянство вечности. Если логически продолжать эту картину, придешь к апологии безличного величия природы, ее непобедимой прочности, ее закономерной самодостаточности.
И этих настроений очень много в современной лирике, шатнувшейся от городской суеты под сень струй... Только не у Жигулина! «Смотреть бездумно и беспечно, с ребячьей радостью вокруг — как будто жизнь чиста и вечна, как этот золоченый луг...» Таков вопрос. А вот и ответ: «Как будто может повториться на том печальном рубеже и эта даль, и эта птица, и этот лютик на меже...»
В природе все повторяется и возобновляется, но в душе-то ничто повториться не может — вот где секрет. Потому и ищет Жигулин постоянное, вечное и прочное в природе, — что ощущает непрочность, однократность, единственность судьбы личности.
В природе — все мерно и циклично возобновляется — «до следующих весен, до следующих зим», — здесь словно нет времени, текущего куда-то, а есть только круговорот. И опять: Жигулин задает вопрос устами невозмутимой природы, а отвечает — устами личности... Постарайтесь уловить и здесь поворот, сдвиг ощущения: «Это все когда-то было: и ресницы, и глаза. Это все, как прежде, мило. Жаль, что вечно так нельзя». (Уловили? Здесь — зияние!) «...Жаль березу, ту, чье семя пало в снежную постель... Жаль, что время, время, время разбивается в капель»...
Потому и прикован так Жугулин к мерным и вневременным циклам природы, что он острее всего ощущает именно то время, какое должна ощущать личность: однократное, невозвратимое, от единственного начала к единственному концу, — то самое философское время, в котором угадывается уже не безличный цикл, но путь личности — к цели, к смыслу, к свету.
В природе, в человеческой жизни, в истории Жигулин стремится, угадать мудрость, конечную оправданность каждого шага. Но есть мудрость и мудрость. Есть мудрость невозмутимая, надмирная, величественная, ничего не знающая о противоречиях. Мудрость, которую вынашивает поэзия Жигулина, — это дитя реальности, это мудрость сочувствия, это не отрицание безумства, но понимание его, ибо в мудрости и безумстве человек остается человеком.
«Называлась улица Касаткина гора. Домики сутулятся на краю бугра. Революционные митинги прошли. Авиационная — гору нарекли...»
В этой ситуации возможны два безумства. «Безумство храбрых», яростный слом старья, полет... И — «безумство сирых» — плач по уходящей старине. Маяковский и Есенин гениально выразили оба состояния, характерные для времени революционных митингов.
Состояние современного поэта, вспоминающего то время, — мудрость понимания.
Это одновременно — и смена времен, и связь времен. Это ощущение уходящего времени, уходящих людей — и ощущение личности, которая не мирится с уходом, ищет смысла, продолжения. Это и есть трагическое мироощущение: личность, однажды явившаяся в мир, знает, что она исчезнет, но смириться с этим не может, ибо нельзя смириться с тем, что вера и любовь личности, и ее память об отцах, и ее путь, и ее мир — все это исчезнет.
Предмет лирики Анатолия Жигулина — мир, в вечной переменчивости которого поэт угадывает прочность, неизменность и стабильность. Но цель этой лирики — вовсе не растворение в вечной невозмутимости эпического круговорота. Ибо ответ вечности дает у Жигулина человек бренный, смертный, непрочный, и однако — побеждающий, ибо в непрочном составе человека есть сила духа, и этот человек — личность.
Динамик гремит у дороги
О первых полетах к Луне.
Давно позабыли о боге
В родимой моей стороне...
О бурно изменяющейся ежедневности Жигулин всегда пишет с теплой лукавинкой, о неизменной природе — с холодноватым, но глубоким почтением:
Трава зеленеет привольно
В проломах заброшенных стен,
Взбираются на колокольни
Рогатые черти антенн...
И только мотив личностного восхождения к смыслу в этом неизменно-меняющемся мире звучит у Жигулина страстно, тревожно, возвышенно:
И только у края покоса,
Над желтой осенней парчой
Тревожно мерцает береза
Нетающей тонкой свечой...
Раньше мне, казалось, что символ поэзии Жигулина — красные капли рябины: кровь, трагическая плата людей за счастье.
Нет, береза! Береза -— вот символ Жигулина, — тихо и светло идущая вверх с руин, из проломов кровью политой земли — белой свечкой, факелом, лучом в небо — тонкая, хрупкая и непобедимая...
2000-е
Написано в 1971 году для воронежской газеты «Молодой коммунар», где и напечатано. Пример простодушной «тайнописи»: о том, почему и за что попал Жигулин на Север, писать нельзя. Можно только ходить кругами около этого запретного пункта. Чем я и занимаюсь, рецензируя поэтические сборники Жигулина в 70 и 80-е годы: извлекаю трагедию «непонятно из чего». И только в 90-е, при выходе «Черных камней», появляется возможность договорить правду. Что, впрочем, не облегчает понимания. Но — из песни не только слова не выкинешь, но и «отсутствия слова».
Калина черная
...И кровью алою —
Калина красная.
И горькой памятью —
Калина черная...
За три года, что существует это стихотворение, Жигулин трижды поставил его на виднейшее место в своих книгах. Оно венчает «Горящую берёсту» — самое полное для своего времени собрание поэта. Оно вынесено в заглавие книги новых стихов Жигулина «Калина красная — калина черная». Оно открывает и новую книгу: «Жизнь, нечаянная радость». Это явно не рядовое стихотворение, оно опорное, оно дает точку отсчета. А если вспомнить, что написано оно в 1976 году, то заложенная в нем образность расшифровывается как знак и акция, как ответ событию, которое в ту пору как раз засветилось в русской культуре горьким светом.
Смерть Шукшина еще саднила в свежей памяти. Фильм «Калина красная» шел в переполненных кинотеатрах и воспринимался как завещание. Калина красная горела и на Новодевичьем кладбище, у могилы, среди живых цветов. Книги Шукшина, его имя, его облик — все резонировало болью, и центром боли, главной точкой ее был этот образ — образ красной ягоды, образ крови.
В этот момент Анатолий Жигулин подключил свою лирику к раскаленным контактам шукшинской символики.
У него было на это право: право подключиться, право дать свой взгляд. Пусть не покажется читателю искусственным это сопоставление, и пусть не смутит его жанровая отдаленность двух этих фигур; когда мы не можем найти жигулинскому стиху бесспорных аналогий в русской лирике (о трех дежурных ориентирах: Есенин — Бунин — Твардовский я скажу ниже), то есть смысл поискать не в близких жанрах, а в близких судьбах. Шукшин — один из крупнейших прозаиков России, Жигулин — один из крупнейших ее поэтов рубежа 60–70-х годов, оба они, по существу, выразили современное русское духовное сознание, а если они выразили разные его стороны, то это все-таки разные стороны одной душевной системы и разные варианты одной драмы.
Они ровесники: Жигулин родился на полгода позже, в год великого перелома шесть месяцев разницы не так уж существенны. Оба вышли из глубины России: Шукшин — из алтайского села (а пройдя по Руси насквозь, вобрал в душу и ее степные дороги, и деревни ее Севера); Жигулин — из воронежской степной стороны, из одноэтажной русской провинции, из Подгорного, из Лапшинки, из Утиных Двориков (а судьбой метнуло на Север, и примерзла душа к Колыме).
Оба немного опоздали к Великой Отечественной войне и не пошли в окопы, но в пределах своего спасенного поколения оказались прижаты к старшему его краю; это значит — голод, это значит — сиротство, это значит — опустошение войны, увиденное и осознанное недетскими глазами.
Только разным цветом крашена их калина.
Шукшин — это взрывная, импульсивная ярость, это азарт и жестокая радость риска, это алый цвет бунта...
Жигулин — обугленная горечь памяти. Он не выплескивает чувств — он их зажимает, таит, носит в себе, боясь поранить других. Он смиряется и сжигает себя этим спрятанным внутрь огнем. Цвет смирения — не голубенький. Это цвет золы, цвет пепелища. Это цвет самосожжения.
Поначалу было белое и черное. Жигулин явился в поэзию как «певец Севера». Автор «Рельсов» и «Полярных цветов» был воспринят тогда чуть ли не как молодой романтик сентиментального толка: «грубые мужики», поймавшие и отпустившие на волю бурундучка, трогательным символом пошли по журнальным отзывам; эмблемой жигулинской лирики стали «нежные цветы» в «заскорузлых ладонях»; почки, обреченно распустившиеся на срубленном дереве...
Тихий звук гибнущего существа, сквозь плоть которого проходит нож бульдозера, жало пилы, удар пули — лейтмотив жигулинской лирики, но чувство, возникающее при этом, далеко от чувствительности. Он жалеет живое, но ни при каких условиях нельзя назвать эту жалость сентиментальностью, потому что классическая сентиментальность вырастает на почве гарантированной безопасности, жигулинский же герой сочувствует живому в ситуации, когда «жизнь всегда на волоске», когда он сам — на грани. Когда он делится с девочкой-литовкой последним, а не «лишним» хлебом. Когда он смотрит в глаза солдата: убьет или не убьет? Вот в этой ситуации попробуй полюби людей...
Шукшинский герой испытывает свое человеколюбие в других, но аналогичных условиях, во всяком случае, если брать нравственную сторону конфликта. И шукшинскому герою надо преодолеть обиду и несправедливость. Я вспоминаю этих заполошных буянов, не умеющих стерпеть душевной боли, этих несмиряющихся «чудиков» и заводных мужиков, мгновенным бунтом отвечающих на несправедливость, — всех тех, кого описал, сыграл и снял Шукшин в своих рассказах, ролях и фильмах...
Жигулинский человек — совсем иной складки. Он жалеет живое, но к себе жалости не ждет. Он бессребреник, он не борец за свой кусок и даже не борец за собственное достоинство. Оно у него на ином замешено, достоинство. Он его не завоевать хочет, но выстрадать. В волчьих условиях он не волчеет в ответ. Душа его обугливается на этом потаенном пламени, и нет ей утешения. Но есть что-то превыше доводов. И есть такая любовь к Родине, которая не изъяснима никакими внешними доводами:
«...Тревожно мне в сердце смотрела Россия. Спасибо тебе за твою лебеду...»
Вот этот свет в горе, эта горечь, переплавленная в любовь, эта полынь, эта черная калина, взошедшая на слезах родной земли, — это и есть настоящий Жигулин, его уникальная душа, его уникальная струна и уникальная дорога в нашей лирике.
В середине 60-х годов, когда северные стихи уже сложились книгами, вышли в свет и стали фактом литературы, Жигулин повернулся к новым темам. Вернее к своим изначальным, и не повернулся, а вернулся. Вернулся к степным деревням воронежской стороны, к порогу одноэтажного домика, где когда-то родился, к воспоминаниям детства — военного, довоенного...
Обращаясь вспять, Жигулин вспоминает отнюдь не только патриархальные палисадники провинциальной «глуши» (хотя и их тоже). Он восстанавливает более сложную картину жизни, где вековая Россия сопоставляется с остро пережитыми новациями 30-х годов, которые тоже уже стали прошлым. Горят красные цифры над старыми фасадами домов, поют осоавиахимовцы, огромный серый дирижабль плывет в «вечном» небе, значок ГТО на цепочках поблескивает в памяти... И черные обгорелые гильзы — на снегу, на пашне, на всем пути детства.
«Вечные темы», разрешаемые Жигулиным в его знаменитых пейзажах, возникают не в надмирном покое.
Умиротворенный пейзаж, делающийся главным жанром поэзии Жигулина во второй половине 60-х годов (как в первой половине десятилетия решали сюжетные стихи: «Бурундук», «Кострожоги»), — это не умиротворение души: душе по-прежнему тревожно. «В тумане плавают осины. И холм маячит впереди. Неудивленно и несильно дрожит душа в моей груди...» «Несильно»... но пронизывает.
Индивидуальную интонацию Жигулина нелегко сориентировать по крупным поэтическим именам (хотя три имени, названные мною выше, прочно вошли в критические отзывы о Жигулине, не исключая и моих).
Дмитрий Голубков мотивировал эти связи так: стих Жигулина — сплав есенинской «обнаженно-эмоциональной размашистости» и «прицельной точности Бунина-поэта». Но все-таки у Жигулина нет эмоциональной размашистости и красоты Есенина и нет бунинской суховатой щегольской точности. Тут вообще нет щегольства и красоты слова, тут иное. Уж ближе Твардовский, хотя и иная у того необходимость и иная тяжесть слова, тяжесть нрава. Жигулин легче, добрей, отходчивей, и страдание его потаенней. У Жигулина интонация стиха возникает вроде бы непроизвольно, в ней откликается многое, иногда мне чудится в ней то чистосердечная кольцовская мечтательность, то пленительная монотонность Никитина — словно сама воронежская земля отзывается Жигулину голосами своих поэтов. Но нет ни там, ни тут прямого преемства голоса. Как многие крупные поэты, Жигулин наполняет живым дыханием какие-то незаметные, «оставленные», полузабытые и оттесненные варианты русского стиха, и я не удивлюсь, если когда-нибудь стиховеды найдут истоки жигулинской интонации где-нибудь в тихих «лагунах» русского стиха, там, где витают тени Ивана Сурикова и Леонова-старшего...
Но не в этом дело. Не звуковым своеобычием, не строфическим рисунком и не пластикой письма вошел в нашу лирику Жигулин, и не по этим законам надо судить его. Тут не в том суть, как сказано и как звучит, а в том, как увидено и пережито. В осенних своих «пейзажах» Жигулин видит перелом к покою, когда сквозь пестроту проступает главный вопрос жизни и выявляется последний смысл. Первые снежинки в цепенеющей тиши, иней на траве, вода, подергивающаяся льдом. А выше — серебро неба, ровное, застывшее, ясное. Холодно-чистая осень, простор и прозрачность, замершая даль...
В природе все повторяется и возобновляется, но в душе-то ничто ни повториться, ни возобновиться не может! — вот где секрет. Потому и ищет Жигулин постоянное, вечное и прочное в природе, что остро ощущает непрочность, однократность, единственность, хрупкость личности. Потому и прикован к мерным и вневременным циклам природы, что так остро ощущает время, которое даровано личности: невозвратимое, от единственного начала к единственному концу, когда заново не переиграешь, когда горе становится опытом, и из тяжести нужно вынести мудрость. Но не ту надличную мудрость, которая величественно царит в природе, ничего не знающей о собственных противоречиях. Мудрость, которую вынашивает лирика Жигулина, — это чисто человеческая мудрость, полная понимания и сострадания, не судящая других, а сопереживающая другим.
«Называлась улица Касаткина гора. Домики сутулились на краю бугра. Революционные митинги прошли. Авиационная — гору нарекли...»
Можно представить себе, как бы окрасилась эта картина под пером поэта, славящего яростный слом старья... Или под пером поэта, оплакивающего уходящую старину. Один клялся бы именем Маяковского, другой — именем Есенина. Но Жигулину нелегко найти предшественника, его состояние есть не оправдание и не суд задним умом, не ностальгия и не экзальтация, но мудрость понимания.
«...Желтая акация, тишь да соловьи. Где тут авиация, милые мои?.. Время было дивное, буйное, как хмель. Славное, наивное... Где оно теперь?»
Это одновременно и смена времени, и связь. Это ощущение уходящего времени, уходящих людей — и ощущение личности, которая не мирится с уходом, ищет смысла, продолжения. Причем связь и смысл возникают не в абстрактно-умственной сфере, не в мыслях о «людях вообще», а в душевном контакте с тем единственным, для тебя сокровенным, родным человеком, для которого и твоя жизнь не наугад взятая нитка из пряжи бытия, но начавшаяся единственная судьба, которая не может быть брошена и забыта. Если бы слово «любовь» не приобрело в нашей поэтической критике слишком узкий, замкнуто-психологический, почти бытовой оттенок, точнее слова не найти... только с большой буквы. В лирике Жигулина Любовь высока — это связь, луч, нить спасения, которая протягивается к тебе «из тьмы безгласной», и держит, и не дает потеряться душе.
«Издалека, из тьмы безгласной, где свет качается в окне, твой лик печальный и неясный на миг приблизится ко мне. Уже без вздоха и без мысли увижу я сквозь боль и смерть лицо, которое при жизни так и не смог я рассмотреть...»
Восприняв в этом стихотворении его «космическый» план, можно вспомнить Тютчева... но мне вспоминается другое: «и смотрю я в глаза солдата...» Какая пропасть между людьми в вещественно-деловой сфере, и как осторожно, неуверенно, но неотступно находят друг друга глаза людей, вспомнивших в себе личностное, человеческое, — скрещенье взглядов над тою полупачкой махорки на пеньке в сугробе... Жигулин горьких северных стихов и Жигулин умиротворенных воронежских пейзажей — одна судьба; потому и остались эти пейзажи в нашей лирике 60-х годов вехой выстраданной мудрости.
В 70-е годы Жигулин выходит к новому рубежу. Я впервые почувствовал в его стихах это новое, когда в 1973 году прочел «Соловецкую чайку» — поразительное стихотворение, одно из лучших у Жигулина, достойное, по моему твердому убеждению, войти в хрестоматии русской лирики. «Соловецкая чайка всегда голодна. Замирает над пеною жалобный крик. И свинцовая горькая катит волна на далекий туманный пустой материк...» И вот деталь, которая делает знаменательными эти кандальной тяжести стихи: «Ничего не решил протопоп Аввакум...»
Душа, прошедшая огни, воды и медные трубы, уже не вглядывается в придорожный куст, она задает вопросы Истории.
Прочтите стихотворение, посвященное родителям: Е. М. Раевской и В. Ф. Жигулину. Две крови: с одной стороны, генералы в орденах 1812 года, с другой — безвестные в веках крестьяне, и между ними — историческая пропасть, и ты — мостик... Не для музейного примирения сведены в стихе эти скрестившиеся силы русской истории, не для демонстрации крепких корней вызваны из небытия эти тени — оно теперь, может быть, и модно, но Жигулин ни к той, ни к этой моде не подключается. У него иное: «Две могучие крови во мне воедино слились, и пошел я по жизни в извечном душевном раздоре». Собой, своей болью заживить вековой разрыв... Сравнить эти стихи с аналогичными мотивами 1959 года в стихотворениях «Предок» или «На Острожном бугре» — с какой гордостью, чуждой сомнений, был выставлен там предок, который жег, резал и «озоровал» в ночи... Впрочем, такая уверенная похвальба озорными предками не была характерна для Жигулина и в 1959 году, это уж скорее Цыбин, «поветрие», которому и Жигулин отдал дань. Но он никогда не был поэтом силы, он всегда был поэтом боли; в начале 60-х годов он болью оплачивал собственную судьбу.
Жгут древние книги.
Пожалуй, психологически легче было бы вынести все это, если бы «супостат» учинил такое. Какой душевный перелом нужен был, какое усилие духа, чтобы с болью и горечью обернуться на себя!
Горели и акты, и святцы,
Сказанья родимой земли...
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли?!
Жигулин рассказывал мне, что первые слушатели этого стихотворения попрекали его словом «братцы»: «Какие они тебе братцы! Они книги сожгли!»
Нет, именно родственное «братцы» и пронизывает стихи подлинной духовной болью. А если и есть в этом стихотворении недостаточно точное слово, то это слово «вы». «Да что ж вы наделали...»
Не вы, а мы наделали.
Не к этой ли догадке подошел на грани гибели и Шукшин? Помните «Кляузу»? Как в больничном коридоре смотрит в белые от ненависти глаза санитарки и, не умея сладить с собой, сломить, смирить в себе ненависть к ней, запредельным каким-то сознанием догадывается:
— Что с нами происходит?..
В русской традиции правда неотделима от совести: подлинная литература не просто честно описывает события, она все берет на себя: и боль, и вину.
Автор «Калины красной» вышел к этому чувству отчаянным рывком, ломая свое самолюбие, смиряя бунтующую кровь свою.
Автор «Калины черной» выносит это чувство из всей своей жизни, где было много горького терпения и того ощущения бесконечной ценности живой жизни, которое дается лишь долгим и тяжким опытом страдания. И тогда через пепел войны, через голод юных лет, через молодость, обожженную колымскими мерзлыми ветрами, через годы и годы выносит человек строчки:
«Жизнь! Нечаянная радость! Счастье, выпавшее мне...»
Цена милосердия
Вроде бы ясен. А вдумаешься — опорный пласт души укрыт за семью печатями. Мы знаем его детство, знаем отрочество, знаем молодость и зрелость. И все же «чего-то» не знаем в Жигулине. Может быть, не знаем юности? Того решающего момента, когда в человеке впервые бесповоротно осуществляется личность, и начинается судьба — следствие его собственных поступков. Когда в слагателе стихов впервые осуществляется поэт — выразитель этой судьбы. Мы не знаем юношеских стихов Жигулина. Два небольшие стихотворения из далекой эпохи конца сороковых годов, достаточно умелые, чтобы удержать наше внимание, и достаточно неумелые, чтобы не сбить нас с толку,— это стихи «ранние», но это не стихи «молодого поэта», и написаны они двадцатилетним человеком. Жигулин никогда не был, не чувствовал и не считал себя «молодым поэтом».
Обстоятельство любопытное, если учесть момент действительного дебюта: десятилетие спустя после первых («ранних») публикаций Жигулин начал широко печататься. За десять лет ситуация в лирике сильно переменилась: конец пятидесятых не похож конец сороковых. Пришло время молодых — время поэтов, для которых молодость оказалась всем: темой и знаменем, состоянием и занятием, эмблемой успеха и пропуском в будущее. «Шик и бравада» тогдашних властителей поэтической арены оставляли не слишком много шансов поэтам иного плана, а Жигулин был поэтом весьма «иного плана», и влетел он в лирику из совершенно иной реальности, за его спиной был достаточно ранний опыт. Не верилось, что он приходится ровесником Рождественскому и Соколову, Евтушенко и Вознесенскому, так он был не похож на них. Он исчужа пробил волны тогдашней романтической лирики, пал в них камнем. Среди поэтических новооткрытий пятидесятых годов Жигулина истолковали в духе того времени — как певца «сурового Севера», поэта «первопроходцев тайги», «сильных и нежных людей». Он для нас начался как бы с середины пути. А начала мы не знаем...
Мы знаем, впрочем, нечто, не менее существенное: предвестье. Обрыв детства. Первое жизненное потрясение, настигшее Жигулина в тринадцатилетнем возрасте: возвращение в только что освобожденный Воронеж. Нет, не детская душа содрогнулась от страшного зрелища зияющей воронки на месте родного дома. Не детская — потому что не ребенок пришел на пепелище. Не ребенок укрепил на руинах кусок обгорелого железа и написал мелом: «Мама! Мы живы!..» Вы понимаете? Детства уже не было. Пустота на месте дома, зияние на месте обжитости, бездна небытия на месте выстроенного мира — сквозной сюжет поэзии Жигулина. Война — его ачало.
А довоенное, еще до первого взрыва, «счастливое детство»? То, что вспоминает всю жизнь: безоблачное, сельски безмятежное — невзаправдашнее. Ласка матери, зелень поля за близкими осинками, звяк ведра у колодца. «Голубая трава в серебре». Синь, сияние, ясность — столь странно-светлым предстает это райское младенчество души в общем горестном контексте жигулинской лирики, что возникает мысль о невольной психологической компенсации: словно уравновесил Жигулин этой позднейшей ретроспекцией некую таившуюся в душе противоположность: ожидание драмы — мятежный вызов — сотрясение основ духа...
На деревенские Утиные Дворики самых ранних бестеневых лет наложился предвоенный Воронеж. Дом матери. Здесь — начальный узел драмы: линия отца или линия матери?
Задумываясь над своей родословной, где начало крестьянское, деревенское, земное, «жигулинское» (в его восприятии — упрямство, непокорство и бунт) скрестилось с «линией Раевских», Жигулин по ходу лет все внимательнее вглядывается в эту вторую, материнскую линию и в то, что именно она дала ему: в традицию воинской доблести и декабристского вольнолюбия. Вместе со сгоревшим в войну воронежским домом — «домом Раевских», где Жигулин провел первые школьные годы, сгорела и библиотека. Остались в воспоминаниях «золотые корешки Брокгауза и Ефрона... какие-то документы — большие хрустящие листы с орлами, фотографии... деда... со шпагой, с орденами... Мать иногда шепотом говорила мне:
— Дворянин... Кавалер орденов святой Анны, святого Владимира...
Сразу вмешивалась старшая сестра — тетя Катя:
— Что ты говоришь ребенку! Какой дворянин! Служащий!
Бумаги и снимки эти прятали...»
Что могла вынести детская душа из этой ситуации? Что угодно: ранний скепсис, горечь, холодную изворотливость... Или раннюю твердость духа, закаляемого в безмолвии. У другого поэта в любом из таких случаев возник бы яркий творческий эквивалент драмы. Но это были бы разные варианты поэзии. Жигулин вынес тихую твердость. Из семейных преданий о предках-декабристах он вынес образ вольнолюбивого тираноборца. Можно представить себе Жигулина юношей с дымящимся пистолетом в руках на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года...
Это кажется почти немыслимым: Жигулин — певец мягко-русского пейзажа, философ, вглядывающийся в лютик на меже, поэт тихой красы, апостол милосердия и понимания, учитель любви и терпения — и эта изначальная кристаллическая твердость, жгучий наивный идеализм, непререкаемая юношеская верность долгу?
Но это так. Меж двумя этими точками и лежит путь. Все это не пришло само собой. Все добыто в муках. Разбилось твердое, жесткое. Раскололась — скала.
Камень — лейтмотив северной, сибирской лирики Жигулина, с которой он вошел на рубеже 50–60-х годов в русскую поэзию. Камень и сталь. Рельсы сквозь тайгу. Топор сквозь дерево. Сила ломит силу. Скала падает под взрывом, несутся из забоя многотонные вагонетки, звенит руда. Тяжесть, жесткость, звонкость. Золотые жилы — и железные люди. Каким-то краем эта поэтика силы перекликается с романтической молодой лирикой того времени: герой Жигулина, вытягивающий на себе стальную магистраль, и впрямь мог показаться собратом тех романтиков в штурмовках и под рюкзаками, которые покоряли тогда сибирские маршруты и потрясенно осваивали сибирские бани. Конечно, зная последующий путь Жигулина, вы можете оценить безумие такого сближения, однако в тогдашнем жигулинском герое действительно было нечто, смыкавшееся с лирическим героем, ну, скажем, Рождественского. Мы сильнее тебя, тайга! Цветы в заскорузлых ладонях. Биографий наших строки — как рельсы сквозь тайгу... Любопытно, что стандартные поэтические символы, вообще очень редкие у конкретно мыслящего Жигулина, но все же проскальзывающие в его северных циклах,— все эти «строки биографий» и «шаги Истории» — отчетливо тяготеют в его тогдашних стихах именно к «полюсу силы».
Что было укрыто за этой стальной воинственностью? Во всяком случае, она входила в «молодежный стандарт» того времени. Такое мог написать и кто-нибудь другой. Где ж сугубо жигулинское за этой сталью, за этой броней? А вот: следите, в последних двух строках прорвется:
Вы когда-нибудь знали
Такую работу?
До соленого пота,
До боли в костях!
Вы лежневые трассы
Вели по болотам?
Вы хоть были когда-нибудь
В этих местах?
Чувствуете слом в последних двух строчках? Нечаянность какая-то, слабость, невольное сочувствие к тому самому противнику-оппоненту, которому Жигулин все время доказывает, что не сломался. Словно с рельсов соскочил, и сразу — в мягкое, незащищенное. И сам этого в себе боится.
Раскалывается твердое. Отсюда начинается постижение человека. Не стального, не каменного — живого, уязвимого.
Вот драма, которая создала Жигулина-поэта. Все каменное, железное, стальное, жесткое, признанное незыблемым, рассыпалось в прах. Среди камня и металла куда более прочным оказалось то, что выглядело непрочным и ранимым: жизнь человеческая. Плоть и душа. Память. Но драма глубже, прозрение горше, и человеческая жизнь бессильна преодолеть бездну времени. Стареет, немощным делается не только тело, стареет и душа, то, что хотелось навечно врезать в память, тоже проходит, бледнеет, стирается. В поразительных строчках Жигулин выражает ощущение этой пустоты, на месте боли, на месте опыта: «Шел по жизни. В трудных бедах выстоял. Были строки — память грозных лет. Получилось что-то вреде выстрела — боль, как порох, вспыхнула — и нет». Это написано в 1966 году, в тот кризисный момент, когда стал меняться в поэзии Жигулина внутренний угол зрения, когда бунтарскую силу начало смирять горькое ощущение разреженного пространства, которую сила не умеет заполнить.
Мягкая душа стелется и гнется под тяжестью такого прозрения. Жесткая ломается. Или смиряет себя, выходя на иной духовный уровень. И это труднейший выход.
Тремя путями пробует жигулинский герой выйти из кризиса, залечить душу, заполнить ощутившуюся бездну.
Он опирается на историю. На память запредельную, всеобщую, всенародную. На вековую старину. Он воскрешает дальних пращуров. Отсюда старосеверные краски жигулинской зрелой лирики. Соловецкая чайка, холодные стены монастыря, бессилие Аввакума. Дремучая, глубинная Русь, старинные лики, флаги косынею, святой Георгий на лихом коне, кресты над Нерлью, синезвездные купола Суздаля, подожженный татарами Владимир, простреленный японцами андреевский флаг над «Варягом». В этих стихах много неподдельного чувства, но именно здесь Жигулин, прирожденный лирик, терпит наибольший урон: поэт предельно конкретного видения, в своих исторических исканиях он поневоле опирается на «старые книги». Возникает отражение отражения, хрестоматийный стереотип «по Брокгаузу и Ефрону». А то и по газетному штампу — такими стереотипами (я писал уже об этом) испорчена поэма «За други своя» — о русско-турецкой войне 1878 года, единственная эпическая попытка Жигулина.
Другой пласт, каким перекрывает личность бездну грозящего ей забвения,— ближняя память. Увиденное тобой в детстве. В том безоблачном детстве, которое осталось в голубой дали, за роковой чертой сорок первого года. Какими-то неправдоподобно светлыми красками исполнено у Жигулина то дивное, невозвратимое время. «Довоенный Воронеж, серебряный пух тополей». Нагретые солнцем плиты тротуара и странный сонный дирижабль над головой. Дощатый легонький киоск по приему металлолома. Значок ГТО на тоненьких цепочках. Парни Осоавиахима с трехлинейками в руках. Штрихи тоненькие: хрупко, опасно, тревожно и светло.
Этот пласт воспоминаний порождает в лирике Жигулина стихи пронзительной силы. И создается эта пронзительность наложением двух планов: тогдашняя святая наивность подсвечена поздним горьким знанием, которое не может и не смеет ничего переменить в прежнем неведении. Сложный контрапункт знания — незнания, трагическое ощущение того, что личность создается непоправимо тяжким опытом, а значит, должна пройти через горе и потери. Жигулин останавливается перед задачей, немыслимой для «железного» и «каменного» сознания: надо пройти через страдание и принять его. Надо полюбить судьбу. Железный индивид не примирится с этим. Только личность... живая, ранимая, смертная. А ведь начиналось — с «железа на камне». Оценим же неслышную драму, которая перевернула эту душу.
И наконец — природа. Прозрачные осенние жигулинские пейзажи, достойные хрестоматий. Зябнущие кусты, голый лес, серое пустое небо, русская скромная краса, которая, как правило, подчеркнута у Жигулина скупым цветовым пятном: красным, зеленым, чаще — желтым. В чем колдовство этих стихов? В точности письма? Да, и в этом. Без прицельно точной детали Жигулин немыслим < вообще. Но это только материал, из которого строится поэтическая картина; суть — в том, кто строит и что строится. Суть — в том предельном усилии души, которая зябнет на осеннем ветру, не примиряясь с забвением, но зная его неизбежность. Жигулин понимает, что и личность — исчезнет. Не только бренное тело, но и душа — память, опыт. Меж двух бездн держится у него человек: меж той, что за спиной, и той, что перед глазами,— меж бездной пережитого и бездной неведомого. Сжавшимся живым комочком дрогнет душа, но не сдается.
Не сдается! Трагическая красота жигулинской лирики состоит в том, что личность продолжает созидать себя даже там, где уже нет никакого «материала»; она удерживает себя там, где ей уже вроде и не на что опереться, — она воистину черпает достоинство из себя самой, хотя слова этого не знает, ибо не знает комплекса неполноценности, который надо преодолевать. Это не «защита достоинства» — это достойный диалог с неизбежным, спокойный ответ ему. И ощущается здесь личность не по «жесту самоутверждения» (как у большинства поэтических сверстников Жигулина), а по еле уловимому повороту интонации, по этому вот оживанию на самом «краю»...
За две, за четыре, за шесть строк до финала стихотворения возникает оживающее, оживляющее: «но...» Поворот стиха в новую плоскость. Еле заметный поворот линзы — иной объем. Иной уровень духа. И здесь, и «не здесь». Перед глазами — пейзаж. А за ним — бесконечность. Бездна.
По существу, эта вот бездна и является темой жигулинского стиха, ее-то он и пишет, ее-то и видит — всегда.
Как жалобно ястреб кричит
На этой опушке глухой.
И ветер полынью горчит
И трогает вереск сухой...
Штрих сверху, штрих снизу, штрих звуком, а меж штрихами — пустошь неба и бездонная тишина.
По этой «тишине» записали Жигулина лет десять назад в «тихую лирику». В принципе добродушно относясь к суждениям критиков на свой счет, этот вердикт Жигулин встретил с негодованием. Впрочем, прежде его в группы как-то и не рисковали записывать: в 50-е годы он все-таки шел как бы «по особому разряду», потому что «тихой лирики», в которую Жигулин мог бы вписаться по внешним, «деревенским» параметрам, тогда еще не было, с шумными же «городскими» поэтами того времени он, в сущности, ничего общего не имел.
Как-то он в ту пору даже противопоставил себя им. «Ты мне читаешь грустные стихи какого-то салонного поэта. О том, как где-то в городе пустом на мерзлых стеклах тает чья-то нежность... А мы в лесу...» и т. д. Противопоставление решительно нехарактерное для Жигулина, весьма неделикатное по тону и к тому же совершенно ложное по фактуре: целит вроде бы в тогдашнего Евтушенко (в 1962 году главным «городским» поэтом считался он), а попадает в... Соколова (мотив замерзших стекол), в поэта, во многом близкого самому Жигулину. «Салонности» же ни к кому из них вообще не приклеишь. Ложный стих — следствие ложности душевного посыла: Жигулин вовсе не антипод «городских» мечтателей рубежа 50–60-х годов; они ему не противники; они отвечают на другой, чем он, вопрос; ему с ними нечего делить.
Настоящий антипод Жигулина появляется в русской лирике десять лет спустя: Юрий Кузнецов. Здесь действительно одна почва, и вопрос стоит один: не о том, как меняется панорама жизни, а •о том, чем заполнить бездну бытия. Вопрос один, а ответы противоположны.
Кузнецов — поэт безлюбья, в нем чувствуется нечто «сатанинское»; пропасть между индивидом и миром он заполняет безжалостным бунтом и черным отчаянием; он не лечит, а доламывает до основания; он возвращает человеку цельность, но эта цельность изначально «языческая», природная, вне-нравственная. Это позиция, действительно Диаметрально противоположная жигулинской, и именно поэтому антитеза Жигулин — Кузнецов говорит о сегодняшней русской поэзии куда больше, чем тяжба лириков «тихих» и лириков «шумных». Она, эта антитеза, куда точнее определяет место и роль Анатолия Жигулина в современной духовной жизни, чем те лютики, кустики и прочие атрибуты деревенской тишины«, певцом которых он кажется «при первом прослушивании», ибо в тишине решается для Жигулина глубочайший вопрос, волнующий современного человека.
Вопрос чисто философский. Замечательно, что, ориентируя личность в поле нравственных проблем глобального масштаба, Жигулин — по контрасту с тем же «тяжко символичным» Ю. Кузнецовым (не говоря уже об А. Вознесенском) — достигает этого вроде бы простейшими, элементарными средствами. Тут уж чисто поэтическая загадка. Никакой символики, никаких запредельных планов, никаких особых сентенций про добро, понимание, милосердие и прощение (какими, кстати, пестрит сегодня ширпотребная «тихая» лирика, та самая, которая вчера поставляла на поэтический рынок «боевитость» и «непримиримость»). Слова вообще мало чего стоят перед напором реальности; слова о милосердии смешны, когда думаешь о той силе, которая копится в молодых душах и ищет форм... Оплачивать слова надо дорого. Присутствие Жигулина в современной духовной ситуации говорит о том, что за словами кое-что есть.
Слова же просты. Рифмы незамысловаты, подчас бедны, иногда небрежны. Размеры правильны. В двустишии "Больше того, что есть в душе, мы — увы! — не напишем, мой друг«,— любому стороннику «современного стиха» захочется убрать слово «мой», обострив ритм и сбив «правильность». Я спрашивал у противников Жигулина, что именно им не нравится в его стихе. Они отвечали: ожидаемость слов и ритмов. Здесь действительно нет словесной и метрической неожиданности — Жигулин ставит привычные слова на привычные места. Жигулин не сцепляет слово со словом, он создает словами общий ритм, сходный с дыханием; этот ритм слит с рассказом о предметах и событиях; он как бы обтекает, обволакивает предметы; это не ритм произносимых слов, а «ритм бытия», в котором отдельные слова «не слышны».
Еще Жигулин не любит в строфе ударного начала, волевого напора и резкого приступа — входит в ритм строки с полувздоха. Столь же мягко и выкатывается из строки — долгим затихающим эхом безударных. Так создается удивительный жигулинский ритм-дыхание.
И еще — не любит, когда из него цитируют отдельное выражение или строчку-другую, предпочитает, чтобы было представлено четверостишие, а лучше — все стихотворение. Ибо воздействуют стихи не как цепочка строчек, не как череда высказываний и не как соотношение смыслов, а именно как микрокосм — маленькое завершенное мироздание.
Подчиняясь закону материала, цитирую полностью:
Громыхала бадья у колодца,
Где под срубом росла лебеда.
И тяжелыми каплями солнца
На колоду струилась вода.
А за серой ольхой на болоте
Над полями задымленной ржи
Голубой-голубой самолетик
В желтом небе кружил и кружил.
И ударили где-то зенитки.
И травинки подрезал металл.
И паук на серебряной нитке;
Паутину вязать перестал.
А потом на пригорке покатом
Зачернели глазницы могил.
И босою ногой на лопату
Нажимать просто не было сил.
Теперь проследите за движением вашего читательского сознания вслед стиху. Вы пробуждены звуковым ударом. Вы сразу видите предметы и только предметы — реально, крупно: листья у бревен, капли воды. Потом — вдали—верхушки деревьев. И тотчас провал в бездну, в гибель: голубое поглощено желтым, висит фашистский самолет в неохватном небе. Новый звуковой удар — залп! — возвращает вас к ближней реальности. Вы падаете, прижимаетесь к земле: видите травинку, паука, паутину, ее серебристость — крупно, еще крупнее, еще... И тут, уводя у вас из-под ног едва обретенную опору, Жигулин «поворачивает кристалл». Вот оно, перед финалом, неожиданное: «а потом...» И вы вновь соскальзываете в бездну — в бездну беды, к могилам, к непоправимости, к черному праху, к бессилию горя. Общих слов нет; предельно осязаемый, реальный, острый штрих — «край лопаты»... Разомкнутый в бездну мир замыкается на мальчишескую душу, проходящую через ад войны... «А потом?..»
А потом—через десятилетия — эта картина возвращается в память и в стих—не проклятием, не отчаянием, не бессилием, не бунтом обиды, но горькой мудростью понимания — силой духа.
Такова цена милосердия.
Быть поэтом любви труднее, чем поэтом гнева: больше сил надо тратить.
Если, конечно, они есть.
К. П. М,19-58-8, я-815, И2-594...
Наконец-то «Черные камни» изданы.
Как мемуарист Жигулин быстро дождался читательской реакции, правда, специфической: человек, причастный к провалу КПМ в 1949 году и обвиненный Жигулиным в предательстве, узнал себя в одном из героев повести; последовали опровержения, потом скандал в воронежской и столичной печати. Я не считаю себя вправе высказываться по фактической сторона событий; я думаю, что это задача историков; лучший способ облегчить им задачу—присовокупить к свидетельствам Жигулина свидетельства его оппонентов. Что и сделано в издании «Черных камней», подготовленном «Книжной палатой».
Художественный смысл повести — несколько другое, тут волен судить каждый.
Как художник Жигулин долго ждал реакции критиков, и это притом, что номера «Знамени» с «Черными камнями» буквально расхватали летом 1987 года. Истолкование художественного смысла оказалось несколько заслонено спором о свидетельствах, но вот в октябре 1989 года в журнале «Родник» в статье Льва Тимофеева дано истолкование. Я кратко изложу смысл тимофеевской концепции—на случай, если не все читатели имели возможность прочесть статью в рижском журнале. Хотя Тимофеева читают: во-первых, срабатывает ореол бывшего зэка, диссидента-правозащитника, во-вторых, срабатывает репутация крутого литературного критика (после уничтожающей статьи о Вознесенском) и, наконец, статья Тимофеева о Жигулине сама по себе интересна.
Суть в следующем. Отдавая должное Жигулину-мемуаристу и никак не смея судить его за то, как он боролся за свою жизнь в лагере, Тимофеев отказывает Жигулину-художнику в праведности нравственного урока, вынесенного из этой борьбы. Операция, конечно, тонкая: отделить реального Анатолия Жигулина, рассказавшего о своих лагерных годах с точностью протоколиста, от того Толика-Студента, Толика-Беглеца, Толика-Колымы, который извлекается из повести в качестве литературного персонажа. Но Тимофеев именно на этом настаивает: раз перед нами «текст», значит, мы вправе знать его нравственный смысл, итог.
Итог, считает Тимофеев, отрицателен. Пройдя через семь кругов лагерного ада, Толик-Студент не удержался от компромисса с сильными мира сего; из жертвы он старается превратиться в хозяина положения. Например, он принимает как должное, что мелкая шушера освобождает ему лучшее место на нарах, и его не мучает, подобно герою Солженицына, жгучий стыд за это. Он и убить готов — в случае побега или в случае предательства, или просто в отместку за оскорбление; во всяком случае, он с ледяным спокойствием наблюдает, как воры убивают ссучившегося нарядчика. И точно так же он готов убить подозреваемого в предательстве члена КПМ — Коммунистической Партии Молодежи,— организованной в послевоенном Воронеже восемнадцатилетними юнцами. За что и пошли юнцы в лагеря. Лев Тимофеев видит в этом закономерность и даже странного рода неизбежность: таковы законы игры. Что-то «нечаевское», пишет он, есть в их молодежной подпольной партии: пятерки, конспирация, насилие... что-то неотвратимое в самом их замысле партии: «Вспомним учебники марксизма-ленинизма: идея построения коммунизма — не что иное, как идея насилия...» Далее Лев Тимофеев связывает концы: удивительно ли, что в конце этой цепочки возникает «озверевший» зек, на которого с уважением поглядывают следователи госбезопасности?
Когда я впервые прочел статью Тимофеева в рукописи (она ходила по рукам), то, помню, подумал: хорошо, допустим, все так, озверевший зек мало похож на ангела, кто спорит, но неужели герой Жигулина — тот, с кого надо начинать подобное очищение рядов?
Прежде всего — уточнение по части коммунизма и насилия. Конечно, мы учились по весьма дурным «учебникам марксизма-ленинизма», и все же даже в эпоху «Краткого курса» четкая грань отделяла насилие как вынужденный путь к цели от самой цели: от коммунизма, означавшего конец и прекращение всяческого насилия. Разумеется, все это было наивно, и я даже думаю, что Лев Тимофеев извлек бы куда больше эффекта из декларированной воронежцами конечной цели КПМ («пострение коммунизма во всем мире»), чем подкидывая им насилие в качестве конечной цели. Толик-Студент, во всяком случае, более трезво оценил КПМ, когда стал Толиком-Беглецом и тем более автором «Черных камней»:
«Вооруженное восстание не предусматривалось самыми секретными пунктами нашей программы. Да и смешно вообще было такое предполагать. Три десятка мальчишек с пистолетами хотели силою свергнуть Советскую власть? Чистая ерунда...»
Читателю ничего не напоминает эта фраза? Я обращаюсь к художественной памяти — мы ведь договорились читать повесть Жигулина как литературный текст,— так по повороту воображения, по приему, ходу мысли вы ничего сходного не припоминаете? А если я подскажу, что Жигулин — прямой потомок декабриста Раевского и это родство входит в художественный организм его повести в качестве активно сознаваемого фактора... теперь припоминаете? Грибоедов о восстании 1825 года — сотня прапорщиков вознамерилась переменить лицо России... Явно ведь не случайна у Жигулина такая перекличка, и именно в том смысле, что есть определенные, как сказал бы Тимофеев, «законы игры» и Жигулин действительно приемлет их — с созданием горькой неизбежности.
Иначе говоря, воронежский студент, потомок декабриста, недобиток войны, романтик образца 1948 года организует Коммунистическую Партию Молодежи. Этот же мечтатель в 1820 году точно так же грезил бы о всемирном устроении счастья, но под титлом «Союза благоденствия» или еще под каким угодно титлом. С «коммунизмом» или без, но он мечтал бы (и мечтал!) именно о всемирном счастье. И без всякого обязательства перед словами, которые сейчас вызывают у нас такое жгучее желание проверить их на прочность. Может быть, для теперешних манипуляций с понятиями (коммунизм, социализм и т. д.) это и удобно. Но Жигулин тут не поможет.
Ну, хорошо, а насилие? А пятерки, конспирация? А «особый отдел», учрежденный в КПМ?
Да. «Особый отдел» — это особо убедительно. Как и то, что в рамках КПМ юные подпольщики учредили еще и Воронежский обком КПМ. Понятно ли, с какой реальности делали сколок основатели КПМ, коли главную роль у них играли сын секретаря Воронежского обкома КПСС и сын постового, стоявшего в охране у секретаря?
Вообще это замечательная художественная картина: программа КПМ, направленная против ВКП(б), пишется школьными чернилами в школьных тетрадках в особняке, куда никого не пускают и куда (среди послевоенного голода) ежедневно привозят спецпайки. Очень хочется, конечно, извлечь из этой картинки какие-нибудь «смыслы». Или «антисмыслы». Но, по-моему, в ней больше всего сюрреализма. В чем ее смыслы и заключаются: и художественный, и морально-этический.
Все это прежде всего «фантастика», из которой буквальные идейные следствия лучше не извлекать. Равно как и из тех реалий, среди которых довелось обретать себя Жигулину-поэту. Я имею в виду, в частности, реалии издательские. Поэт Жигулин начинал печататься в воронежской областной газете. Не хочет ли Лев Тимофеев прокомментировать ее название? Газета называлась «Коммуна», и другой не было. Впрочем, была. Была другая. Самая первая публикация Жигулина состоялась 29 марта 1949 года в газете "Революционный страж«— органе политчасти УМВД Воронежской области. Не хочет ли Л. Тимофеев расшифровать читателю и эту аббревиатуру? И связать ее с существом жигулинской лирики? Может быть, Жигулин должен был саботировать эту газету, чтобы избежать прикосновения к насилию?
А может быть, мы лучше поймем его лирику именно в этом сюрреалистически повторяющемся контексте?
А может, мы и повесть его лучше поймем, исходя не из той или иной вычлененной линии («программы» КПМ, тюремный закон: кому какое место занимать на нарах и т. д.), а из той общей, художественно понимаемой реальности, которую разворачивает в своей повести Жигулин? Он ведь не потому рассказывает о своем детстве, что так полагается по жанру «автобиографии», он — по верной догадке Л. Тимофеева — рассказывает только то, что работает на его внутреннюю тему.
Немец уже под Курском, в Воронеже падают бомбы, учиться негде: школы кочуют, уступая здания госпиталям, а дети на уроках пения весной 1942 года разучивают: «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага...» Фантастика, перевернутый мир, светопреставление. Прозрачный от обстрелов город. Разбомбленный автобус с детьми. Отец уверен, что его сыновья погибли. Сыновья не знают, где мать и сестра. На пепелище на листе обгорелого железа пишут мелом: «Мама! Мы живы!» — и все это входит в судьбу как данность, как норма — другой нет. Собирают сестренке игрушки в разбитых домах — а вдруг жива? Трехлетняя девочка появляется с того света, баюкая завернутый в тряпку кукурузный початок. Ее крестят; крестик сделан из снарядной гильзы.
Русские и немецкие кости перемешаны на поле под Воронежем. Картина лагеря не появляется в повести «в противовес» счастью, миру или жизненной норме, она возникает из ужаса, воспринимаемого как норма. Это единая жизнь, в которой человек размазывается в пыль, в прах, вместо имени он получает код, номер—"Я-815«, и еще до этого он сам берет себе код: «КПМ», он принимает правила борьбы, он борется по этим же правилам: подполье, явки, условные знаки, ритуальные жесты, клички, и в конце концов, когда судьба налепливает на него какой-то уж совсем сатанинский номер — и это «нормально»; по этому номеру — И2-594 — распознав колымчанина, «мелкая уголовная шушера» в тюрьме послушно расступается, давая место, и это норма, это закон, это жизнь.
Жизнь, равная антижиэни. Я, как и Л. Тимофеев, говорю о чисто художественном эффекте жигулинского текста. О том нравственном ферменте, который таится в интонации, в «порах» между словами, в потайном смысле, который извлекается не из того или иного «утверждения», а из всей картины.
Вчитайтесь:
«...Я расскажу читателю, как снизить шансы гибели или очень тяжелой травмы при таком битье. Надо свернуться в комок, подтянуться, лежа на левом боку, ноги к животу. Насколько возможно, защитить ногами мошонку и живот руками, согнутыми в локтях, локтями — сердце и печень, ладонями рук — лицо, пальцами — виски. И как можно глубже втянуть голову в плечи. Это оптимальная поза при таком битье. Пусть поломают руки, ноги, перебьют пальцы — это не смертельно. Конечно, сильным ударом сапога могут и перебить позвоночник, и проломить череп. Но при битье по-хорошему это не делается. Да и вообще это не очень легко сделать: человеческий череп и позвоночник довольно крепки...»
Что тут страшней — картина избиения или деловитая, аптекарская продуманность советов? И эта интонация устава? И эта методичность, невозмутимость, как будто дело только в том, чтобы успеть упасть на левый бок, а то, что тебя вообще могут убить на каждом шагу и ты не человек — это «ничего», это «в порядке вещей», это «ладно»...
Стиль Жигулина — протокольная точность, как бы не замечающая изначального ужаса жизни. Тут решают именно «лакуны» эмоционального течения речи, надо только уметь читать. Да, верно, Солженицын в «ГУЛАГе», вспоминая, как ему пахан расчистил лучшее место, говорит о краске стыда, а Жигулин в аналогичной ситуации этого «не говорит»... впрочем, и он иной раз говорит, я могу и у Жигулина найти что-нибудь вроде: «писать страшно» — продемонстрировать Л. Тимофееву соответствующую фразу, но неужели Л. Тимофеев думает, что художественный смысл от такой фразы углубится? И ужас станет сильнее оттого, что его назовут ужасом? А может, он как раз сильнее от отсутствия фразы? И куда страшнее, когда доктор Батюшков, объяснив Толику-Студенту, как точнее сломать ему, доктору, на подкатке бревен руку, слышит «легкий хруст» своих костей и тихо говорит: «Мерси...» Дворянская вежливость.
Надо же читать и лакуны текста, не только строчки. Жигулин «не жалеет» людей, он соглашается стать исполнителем приговора предателю, он «взводит курок», он «готов окликнуть его, чтобы в глаза объявить приговор»... Однако не стреляет. Борис Батуев подает знак отмены...
Интересная загадка. Батуев жалеет, а Жигулин не жалеет. Батуев, глава КПМ, в ярости схвативший стул, чтобы на очной ставке проломить череп предателю, прощает предателя. А Жигулин — не прощает. Он только... восхищается прощающим Батуевым. Уравнение с одним неизвестным. Решительный Батуев отменяет казнь, мечтательный Жигулин с пистолетом в руках спрашивает: «Что случилось?» Ответ Батуева помните? «Нечаевщина...»
Так Лев Тимофеев, анализируя структуру КПМ, тоже поминает отца русского терроризма. Я в первую секунду подумал: не натяжка ли? Неужто воронежские школяры в 1948 году так уж хорошо знали «Катехизис революционера», чтобы его копировать? Проверил. Знали. Но не чтобы копировать, а чтобы избежать. Почему не избежали? Да по той же причине, по какой посреди голодного города «кони сытые бьют копытами». По той же причине, по какой безумные подпольщики, взбунтовавшись против обожествления Вождя, готовят бунт, следуя логике, которая привела к обожествлению Вождя. Той логике, по которой жесткий Борис заставляет себя пожалеть врага, а мягкий Толик заставляет себя быть безжалостным. Той логике, по какой беспощадный следователь Белков, выйдя в отставку, выпав из стальной системы, превращается в жалкого, дряблого, бессильного человека с застывшим в глазах ужасом. Он таким и был, в сущности. Мягкое лезет в панцирь.
Или защищается. Но по законам жестокой борьбы.
Да, Толик-Студент готов «замочить» лагерных «сук», которые добивали его, до кровохарканья доводя, но добивали-то они его за что? За отказ «ссучиться!» И ведь отказался, не пошел на сговор с палачами! Конечно, в этой борьбе мало высокой духовности. Конечно, «озверение» в ответ на крики: «Жид!» -— реакция, далекая от всепрощения. Конечно, «битый фрайер» в лагере — совсем не то, что «агитпроп ЦК КПМ» в воображаемой партии. Но и «битый фрайер» в лагере ведет свою борьбу: он не ссучивается. В вывернутой реальности он отстаивает свое достоинство, и странно предъявлять ему претензии, что при этом он не «сопереживает Искусству» и не возвышается духом настолько, чтобы в упор не видеть ни КГБ, ни войны воров и сук, ни прочих «разнообразных насильников».
Последний упрек взят мною опять-таки из статьи Л. Тимофеева. Журналистский соблазн — сравнить «Черные камни» с перепиской Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака (в том же журнале «Знамя»). Дочь Марины Цветаевой в сибирской ссылке вспоминает «Детство Люверс» и размышляет о Серафиме Саровском, а доходяга зек Жигулин, корчась от побоев на нарах Бутугычага, думает о том, как бы ему замочить бригадира, чтоб тот не вербовал его в суки. Кто же из них духовнее, спрашивает Л. Тимофеев.
Я бы поставил другой вопрос: что означает эта драма? Что означает для всех нас драма, заключенная в довести Жигулина, и в чем она? Лев Тимофеев истолковал ее странно, но он ведь безошибочно учуял в ней скребущий вопрос, на который мы должны найти ответ. Что-то «неладное» в интонации, какой-то «расстык» фона и тона.
Попробую сформулировать. На уровне стилистики.
Странна обостренная цепкость героя-повествователя, «уставная» пристальность его взгляда, подчеркнутое желание свести счеты, почти бухгалтерская память на мелочи. Речь не только о документальной фундированности рассказа, вывернувшего наизнанку все «гебистское» делопроизводство 1949 года, но прежде всего в тональности. Ну, вот пример чтобы читатель понял, что я имею в виду. Напившись на дне рождения, девятнадцатилетний подпольщик бабахает из нагана в портрет генералиссимуса, после чего приходится перепуганным хозяевам и гостям спешно уничтожать следы: жечь портрет, выковыривать из стены пули, белить стену и т. д.— так удивительно даже не то, что все это произошло, удивительно, что в такой ситуации юнец помнит, что он стрелял «под углом примерно сорок градусов», так что пули глубоко не шли. Трезвость взгляда поразительная (в том числе и для сорока градусов). Никакой широты души, никакой, так сказать, безоглядности. Нет, перед нами далеко не небожитель. Его пунктуальность странно соотносится не только с «фоном» общего безумия, но прежде всего с «тоном» поэзии самого Жигулина — благородно-созерцательной, полной тихого вдумывания и чуждой всякого подобия мелочности.
Вот это и есть самая интересная для меня загадка: как все-таки жесткость героя жигулинской повести кореллируется с мягкостью героя жигулинской лирики?
Рискну предположить. Тем более что Анатолий Жигулин, прикованный и сам к этой загадке, говорит-таки кое-что и впрямую. «Я был робким, стеснительным, даже боязливым ребенком. А в новой, необычной ситуации словно преодолел какой-то невидимый психологический рубеж...»
Какая же нужна жесткость, чтобы заклясть в себе эту мягкость! И как много это объясняет. Как это по-русски: от созерцания вдруг пойти напролом, ради мировой всеотзывчивости учредить подполье с «особым отделом», из желания осчастливить человечество, непременно все человечество, то есть «коммунизм во всем мире», не меньше, впластаться в абракадабру, в жуть, в птичий язык: КПМ... 19-58-8... Я-815... И2-594... № 02-ДСП-7688-56″.
(Расшифровываю: 19-58-8—статья УК РСОэСР — террор; 02-ДСП-7688-56 — номер справки о реабилитации).
Многое открывает нам страдальческая исповедь Анатолия Жигулина. И не только в делах Воронежского УКГБ бериевских времен или в лагерных порядках того же ведомства. Шире. И глубже. И страшнее.
КПМ: слово и дело
Воронежский критик и публицист Леонид Коробков (чьи яркие статьи в центральной печати, надо думать, памятны читателю) прислал мне книгу. Книга эта не без намека на известный роман Ан. Рыбакова, названа: «1937-й и другие годы». Л. Коробков — ее составитель, а прислал он ее мне в ответ на мою статью о «Черных камнях» Анатолия Жигулина.
Несколько слов о составленной им книге. Формально говоря — очередной (седьмой) «сборник публицистики» (серия «Родное Черноземье»). Фактически же, я думаю, книга отнюдь не рядовая и не «очередная». Это сборник «невыдуманных рассказов, присланных откликнувшимися на обращение издательства писателями, журналистами, свидетелями и жертвами беззаконий». Кое-что знакомо по центральной печати, кое-что публиковалось в областной. Есть связанная с воронежской ссылкой глава из воспоминаний Надежды Мандельштам. Есть мемуары Натальи Перегуд, «восторженной девочки», чья история была в свое время кратко передана в солженицынском «Архипелаге». Главное же в книге — костоломные дела эпохи коллективизации и 1937 года. Воронеж, Курск, Белгород, Тамбов. Юг России: хлеб, замешанный на крови. Гибель крестьянства состыкована с гибелью кадрового корпуса партии, эту коллективизацию проведшей. Материалы архивные, дневниковые: «первоисточники». Есть над чем задуматься: где в этом ужасе правда рабской покорности, где — правда народного решения? — вопрос, который остро ставит в своем послесловии к книге ее составитель Л. Коробков.
Жаль, если этот том, напечатанный в Воронеже пятью тысячами экземпляров, затеряется в базаре нашей гласности. Он примыкает к таким важнейшим изданиям, как «Минувшее», «Доднесь тяготеет...» Я рад возможности рекомендовать читателю эту книгу.
Но, конечно, Л. Коробков прислал мне ее не ради рекламы. Причина другая: в книге опубликован расширенный вариант известного очерка спецкорров газеты «Советская Россия» Валерия Кондакова и Александра Пятунина «Дело КПМ». Речь там идет о фактической основе событий, изображенных в повести Жигулина.
Должен сказать, что сам я, когда писал в «ДН» о «Черных камнях», сознательно «закрыл глаза» на ту полемику, которая велась вокруг повести в печати, в том числе и в «Советской России». Я, никогда не нюхавший «лагерной пыли», не считал себя вправе (и сейчас не считаю) как бы то ни было судить тех, кто лагеря прошел. Кроме того, не скрою, меня пугала степень ярости, смертельной обиженности, прямо какой-то ненависти, которая в этой полемике ощущалась с обеих сторон. И, наконец, у меня была своя задача: я хотел прочесть «Черные камни» не как мемуар, не как вещь документальную (даже если сам автор и считал ее таковой), а как исповедь, написанную художником. Рано или поздно ее будут читать именно так. Это к любой исповеди относится: факты эмпирического плана просеиваются историками — остается духовный опыт. Тем более это относится к исповеди такого крупного поэта, как Анатолий Жигулин.
Перечтя сейчас в коробковском сборнике очерк Кондакова и Пятунина, существенно дополненный авторами, а главное, извлеченный из контекста яростной газетной полемики и звучащий куда взвешеннее и спокойнее, я пожалел, что не имел этого сборника, когда писал свою статью (я его и не мог иметь: в ту пору сборник еще и в набор не сдавался). Ибо очерк помогает кое-что понять и уточнить именно в психологической партитуре повести, в художественной логике «Черных камней». Поэтому я решаюсь вернуть читателя к моей статье с тем, чтобы кое-что договорить.
К каким выводам приходят Кондаков и Пятунин?
Прежде всего, вот что: антисоветская и антисталинская КПМ, по делу о которой Жигулин схватил свой срок, не была по тогдашней внутренней установке ни антисоветской, ни антисталинской. Это была, скажу так, коммунистически-ортодоксальная, романтически настроенная молодежная группа, числившая «Краткий курс» и «Биографию» товарища Сталина своими настольными книгами. И это никакой не камуфляж, а действительная реальная вера большинства тогдашней молодежи. Я сам был таким и не собираюсь задним числом изображать из себя борца со сталинизмом. Я готов понять тех, кто искренне опрокидывает в 1949 год свои теперешние чувства. Но я хорошо знаю, что могли думать тогдашние ребята.
Антисталинизм и антисоветчину им навесили в КГБ, и не в КГБ «вообще», а в совершенно конкретных инстанциях совершенно конкретные люди, которым в тот момент было выгодно раздуть дело. А там началась своя логика и пошла своя техника: раз «Коммунистическая партия молодежи»- значит, троцкизм; раз кого-то «втянули», — значит, вербовка; раз вырезали себе печать из ластика, — значит, военная организация. Что там на самом-то деле было? Всего-то к «Краткому курсу» и «коммунизму во всем мире» прибавили «искоренение бюрократизма», «борьбу со взяточничеством» и справедливое «распределение продуктов», элементарнейшие человеческие реакции, с которыми и тогда ни один нормальный человек не стал бы спорить, тем более учитывая их наивность. Разумеется, была еще и юношеская игра в «свою партию», да дети обкомовцев другого языка и не разумели. И потому не чувствовали за собой никакой настоящей вины, а именно и только — что «заигрались». И потому рассказывали поначалу все искренне: не «раскалывались», а именно рассказывали, выкладывали все как на духу, сразу же, на первом же... не допросе даже, а «собеседовании», ибо «допросами» все это обернулось потом, когда с санкции Абакумова стали шить дело.
Что важно с точки зрения жигулинского сюжета: и те вожди КПМ, которые изображены у него в ореоле героизма, и те, вернее, тот кто под вымышленным именем собрал в себе все качества предателя, в реальности давали одинаковые показания и вели себя более или менее одинаково. Я бы сказал, что они одинаково мучились, попав в колеса машины. Это следует из «дела», изученного Кондаковым и Пятуниным, и об этом они свидетельствуют с полной убежденностью.
Откуда же романтика антисталинской «конспирации», презрение к «предателям», вообще весь тот романтический дух, которым проникнуты «Черные камни»?
А вот это уже «моя тема», это существекнно для «уроков духа», и именно об этом я писал в своей рецензии: компенсация нашей внутренней мягкости! Попытка разом, рывком, одним прыжком оторваться от «проклятой реальности». Поэзия, «исправляющая» житейскую прозу.
Главный руководитель КПМ (и любимый герой повести Жигулина) Борис Батуев, знавший своего друга «Толика-студента» едва ли не лучше, чем тот знал себя сам, заметил, что «студент» готов признаться в террористических акциях и намерениях «ради того, чтобы по свойственной ему склонности к чему-нибудь фантастическому прослыть заядлым террористом».
Батуев это тоже не на душевной исповеди говорит, а на следствии, на повторном следствии 1954 года, так что и тут надо еще ломать голову, где правда, а где игра, где прозрение, а где уловка. Сюрреализм нашей жизни продолжается. Но мы-то тоже выросли в этом сюрреализме. И я вижу: и правду, и прозрение.
Так страшно прозревают души, которым выпало войти в жизнь под фанфары мировой революции. Кровью, болью, слезами до сих пор отливаются им та вера и та фантастика. Мало им было войны — еще и лагерем проволокло. А лагерь — страшней «дела», потому что «дело» — казуистика, провокация, фантастика и подлость, а лагерь, увы, — народная жизнь.
Жалко их, больно за них, страшно за чистых, «заядлых» романтиков, всю жизнь расплачивающихся за свои и чужие иллюзии.
Вот все, что я хотел добавить к своей статье о «Черных камнях». А за возможность это добавить — еще раз выражаю Л. Коробкову искреннюю признательность.
1997-й. КПМ с полувековой дистанции
Итак, в 1947 году три воронежских школьника (среди них — сын секретаря обкома партии) придумали тайную организацию (кружок, группу — «они не сразу определили ее статус») для борьбы против существующего режима.
Режим ответил репрессиями. Никого, правда, не шлепнули, но замели и упекли почти всех, кого три школьника успели втянуть в это дело, — около полусотни человек.
Судьба послала заговорщикам талантливого поэта, который впоследствии и описал их хождения по мукам — сначала в стихах, а потом в повести «Черные камни». Повесть была издана, переиздана, переведена на иностранные языки; она, собственно, и обеспечила группе юнцов, загремевших в лагеря, позднюю известность: не только не дала ей затеряться в памяти, но придала статус символического исторического события.
К пятидесятилетнему юбилею этой группы воронежские газеты опубликовали статьи и воспоминания участников событий. Не буду ничего пересказывать, тем более, что о повести «Черные камни» уже писал дважды. Собственно говоря, меня интересовал путь Анатолия Жигулина, поэта поразительной душевной чистоты и честности, — хотя по ходу разговора приходилось касаться и давно прошедшего политического дела, в котором ни такой чистоты, ни честности не было, — а была адская смесь подлости системы и беззащитности ее жертв, слабость которых усугублялась противоречивостью их позиции.
Вот в это последнее обстоятельство и есть смысл вдуматься сегодня, когда прямые страхи вроде бы изжиты, и нынешние читатели, для которых «милый образ бандита в пенсне» (имеется ввиду Л. П. Берия) — что-то вроде анекдотического персонажа, который в паузах между расстрелами порывался начать либерализацию режима.
Для нынешних читателей вся эта история начинает отдавать чуть ли не филологическим казусом. Дело в том, что тайная организация воронежских школьников, ставившая своей целью борьбу против Коммунистической Партии Советского Союза, называлась — Коммунистическая Партия Молодежи. КМП против КПСС. Коммунистическая партия против коммунистической партии — есть отчего тронуться неохмуренному разуму...
Надо сказать, что этот казус — едва ли не основной пункт рефлексии (оправданий и самооправданий) бывших активистов КМП, вспоминающих сейчас минувшие дни.
Были ли создатели КПМ убежденными коммунистами?
Нет, в таком контексте им сейчас оставаться невыносимо. И они мобилизуют всю последующую историю (после 1947 года), чтобы найти себе другой контекст:
«Молодежные революции, потрясшие Европу в конце 60-х годов, имели, по существу, те же корни: радикализм юного поколения, его стремление к переменам в обществе. Именно эти идеи за два десятилетия до парижских и пражских событий, пусть в гораздо более скромном идеологическом и организационном масштабе, впервые прозвучали на нашей воронежской земле...»
Эти идеи? Интересно, что сказали бы Батуев и Жигулин, если бы им предложили в 1947 году поджечь университет. Или подсунули бы им ту вытяжку из троцкистских идей, которой питались бунтари в Париже 1968 года. Или пригласили бы на Вацлавскую площадь, где жег себя Ян Палах, и этот живой факел был символом отчаянного сопротивления европейского сознания тупому русскому насилию, а если этот акт прикрывался идеями «социализма с человеческим лицом», — заметьте этот лейтмотив: прикрытие, маска, вывеска! — так вот: именно это прикрытие и было отброшено еще 20 лет спустя как липовое. Не говоря уже о том, что примерявшаяся парижскими бунтарями маска «молодежного» социализма с троцкистским окрасом вряд ли пристала бы Анатолию Жигулину, Борису Батуеву или даже Давиду Будённому, который сегодня возводит «Париж» к «Воронежу».
«Как же тогда быть с названием нашей организации — коммунистическая партия молодежи, которое и сейчас у некоторых вызывает сомнение?» — спрашивают в газете «Воронежские вести» Д. Будённый и В. Рудницкий.
У меня это сомнений не вызывает. Потому что я верю мальчикам 1947 года: это были действительно самые чистые и честные души. И верили они — в коммунизм.
Так что неспроста по нынешним временам их приходится выгораживать от обвинений уже не в антикоммунизме, а в коммунизме.
В Программе КМП стояло следующее: обновление компартии и пропаганда идей Ленина.
Сегодняшнее объяснение: «Не исключено, что руководители КПМ такой программой пытались обеспечить некоторое прикрытие...»
Это — не в 1968 году, во времена Палаха, а в 1947, и не в Чехии, а в глубине России: идеи Ленина, стало быть, — уловка. А на деле что? А на деле «обсуждается вопрос о необходимости и возможности устранения сталинского режима».
Бланкисты! Из Ленина усвоили одну идею: режим — сломаем, а там разберемся...
Не верится. Не верится мне что-то в эту иезуитскую логику. В безумие молодых воронежских идеалистов — верю. В их змеиную хитрость — нет. В наивную доверчивость — верю. В лукавую изворотливость — нет. Это потом, в застенках, запираясь и отпираясь, честные люди проходят такую школу. Начинают же с этого — только прожженые политиканы.
Перечитывая «Черные камни», ветераны КМП пишут: «Из этих материалов видно, что автор (Анатолий Жигулин —Л. А.) решительно покончил с иллюзиями ленинизма и коммунизма много лет назад, еще в первые годы заточения».
В первые годы заточения — покончил. Значит, до заточения, то есть во время зарождения КПМ и активного в ней участия, — был всё-таки во власти этих иллюзий?
Да, был. И не должен, я думаю, ни каяться в этом, ни открещиваться от этого.
Еще один член КМП, бывший во власти иллюзий, пишет:
«В тюрьме и в лагере, встретив мудрых и честных людей, я окончательно понял, что коммунистическая идея —это бредовая химера, причем очень страшная и опасная, так как любые коммунистические режимы по своей сути — преступны и антинародны. Увы, не все „капээмовцы“ сегодня разделяют подобную точку зрения. Есть те (их, правда, немного), прозрение которых затянулось. Бог им судья!»
Бог-то бог, да почему же тех, кто «не разделяет подобную точку зрения», считать такими уж слепыми? И что это такое: «коммунистические режимы» — кто их видел реализованными? Тоталитарные — да, террористические, казарменные, лагерные, причем под любыми идеологическими соусами... но «коммунистические» — это все-таки немного из другой оперы. Коммунизм — не бредовая химера, а вышедшая из недр христианства «вековая мечта человечества», оказавшаяся (или раз за разом оказывающаяся) несбыточной. Разумеется, если судить о коммунизме только по тому, что написали о нем у нас после 1991 года, — то действительно: страшен, опасен, преступен, антинароден. А если вспомнить, что писали о коммунизме веками? И не желтые журналисты, а великие утописты-философы? Не отбросы же общества первыми шли в коммунизм, не боевики, рвавшиеся переломить хребет режиму и прикрывавшиеся коммунизмом как маской, а самые кристальные души, верившие в коммунизм как в будущий рай земной.
Когда большевики пришли к власти, и обнаружилось, что вокруг — разруха, у Льва Каменева, хозяйничавшего тогда в Москве, спросили, отчего это при новой власти продолжают твориться старые безобразия. Он всердцах ответил:
— Значит, такой народ!
В отличие от семнадцатилетних воронежских школьников, Лев Борисович, опытный политик, куда больше подошел бы под определение «врага режима», прикрывшегося «коммунистической идеей», — однако и у него хватило же идеализма понять, что идеи — это одно, а реальность, в которую они впарываются, — несколько иное. Он, правда, рискованно сформулировал: «такой народ» — этот народ и отплатил ему в конце концов чекистской пулей. Но то, что есть неотвратимый и довольно «грязный» ход вещей, который пригибает к земле самые чистые и честные идеи, — это старый большевик хорошо почувствовал.
Реальность страшна, грязна. И только те идеи остаются в ней чистыми, которым удается остаться «чистыми идеями» и не влезть в реализацию. Большевики схватили власть, когда насилие уже было раскручено на всю катушку... Возьми власть эсеры, они тоже очень скоро почувствовали бы, что «народ такой». И точно так же ставили бы своих оппонентов к стенке. И не к большевикам, а к ним, эсерам, хлынула бы «во власть» та лапотная масса, которая «от сохи» рвалась к городской жизни, и назвался бы этот призыв не ленинским, а черновским, спиридоновским или еще каким-то. И чудовищная реальность ХХ века реализовалась бы под другими именами. И самые честные, самые чистые воронежские школьники создали бы союз заговорщиков не во имя очищения марксизма-ленинизма а во славу неискаженных идей Петра Кропоткина...
В конце концов идеалисты и мечтатели оказались бы в тех же лагерях, а головорезы — там же — вертухаями. Хотя и клялись бы другими идеалами и докладывали бы другим начальникам.
Теперь насчет начальников. Есть такая версия, что дело КПМ было «сфабриковано по инициативе представителя МГБ по Воронежской области Литкенса и министра госбезопасности Абакумова, которые якобы неправильно информировали вождя, а капээмовцы, мол, были верными последователями дела Ленина-Сталина».
По поводу этой версии Д. Будённый и В. Рудницкий замечают:
«Наивная сказка для простодушных людей, известный прием сталинистов — все преступления и беззакония якобы творились прокравшимися в органы врагами партии и народа, такими, как Ежов, Берия, Абакумов, которые вводили в заблуждение „отца народов“. Поразительно, но в эти сказки до сих пор верит немалое число людей».
Верят или не верят, сказки или не сказки — это с полувековой дистанции уже мало что меняет. От последнего местного уполномоченного до людей уровня Ежова и Абакумова — они все пеклись о стабильности строя и безопасности собственной властной структуры, хотя отлично знали, я думаю, истинную цену мальчишеским заговорам. И Сталин знал. Но знали они также и другое: если с камешка пойдет лавина, — всех погребет. И потому вырубали «полувиновных», стирали в пыль чистых и честных с цинизмом и жестокостью, то есть без всякого идеализма и без жалости к идеалистам.
Но идеалисты должны же были рано или поздно понять, откуда в этой жизни цинизм и безжалостность! Для того, чтобы расправа над ними была признана несправедливой, они должны были и впрямь чувствовать себя борцами «за дело Ленина-Сталина». А если они изначально чувствовали себя борцами против этого дела, — то о какой безвинности могла идти речь? Чего другого они могли ожидать от режима?
Страшная дилемма. Недаром же и сегодня некоторые капээмовцы не могут выпутаться из этой петли. «В эти сказки до сих пор верит немалое число людей». Как сказал один сказочник, нет такой сказки, какую не выдумала бы сама жизнь.
А жизнь вот что предъявила:
«Многие члены КПМ были из сельской местности, многие городские ребята бывали в селах. Они знали ужасающее положение селян, хотя и в городах было ненамного лучше. Крестьяне ненавидели колхозы, многие помнили ужасы коллективизации и 37-й год...»
Ужасы коллективизации и 37-й год помнили несомненно многие, а войну, которая только что выжгла эту жизнь, помнили, надо думать, все. И понимали, что ужасающее положение селян и горожан было не целью марксизма-ленинизма, а следствием войны, вернее, двух мировых войн, между которыми страна сидела на осадном положении и после которых еще полвека отливала пушки вместо масла.
Рано или поздно историки зададут вопрос: а эти мировые войны, истерзавшие Россию и заставившие ее влезть в большевистское ярмо, — они откуда на нашу голову? Извне напасть? Или от нашей же внутренней смуты, которая наводила на нас «соседей-врагов»? Крестьяне ненавидели колхозы? Да, так. До этого они ненавидели кулаков и помещиков, а теперь ненавидят тех, кто распустил или разогнал колхозы. Трудно быть ангелом, в поте лица добывая хлеб свой, да еще держа на хребте ощетинившееся пушками государство, — однако какое другое государство могли представить себе тогдашние идеалисты, кроме того, какое вымечтали их прямые предшественники, «русские мальчики» с исправленной картой звездного неба в руках, — государство, которое эти же мальчики пошли завоевывать под красными знаменами?
Благородство-то в них осталось. И нищая земля с отчаявшимися «селянами» ранила душу. Хотя в городе этим мечтателям было пусть «не намного», но лучше. И некоторые (из обкомовских детей) привыкли видеть даже милиционера, охранявшего их покой. И эти же дети — пошли против отцов потому что не смогли вынести боль, ужас опустошения. Молоденькие советские школьники были наследниками тех благородных, честных, кающихся дворянских детей, которые когда-то «выламывались» из уюта усадеб и шли в народ, в революцию, в коммунизм...
Но отнюдь не в то «общество потребления», которое строится теперь на руинах «коммунизма».
О руинах теперь говорят так — я продолжаю цитировать статью, опубликованную в Воронеже к пятидесятилетию КПМ:
«Коммунизм... весьма коварная сказка... очень удобное средство для оболванивания масс и достижения комвождями амбициозных, чисто преступных целей...»
Я догадываюсь, как подобное рассуждение — самый этот тип мышления — может вывернуться в головах нынешних десятиклассников, наблюдающих строительство особняков для «новых русских» и толпы бомжей, не находящих себе места:
— Демократия — весьма коварная сказка... очень удобное средство для оболванивания масс и достижения демвождями амбициозных, чисто преступных целей...
Какие «задачи» поставят в своей «программе» нынешние юные заговорщики? Думаете, «общество потребления»?
Авторы статей к юбилею КПМ, кажется, именно так думают:
«По мере стабилизации и укрепления экономики, повышения благосостояния народа так называемый левый электорат будет неуклонно уменьшаться.»
Блажен, кто верует. А вы уверены, что парижские молодые бунтари, «так называемый левый электорат» 1968 года (а именно эти радикалы кажутся некоторым ветеранам КПМ прямыми наследниками их «молодежной партии») —думаете, те юные нигилисты взбесились оттого, что были несыты? А может, потому и взбесились против «общества сытости», что оказались — впервые после войны — достаточно накормлены, чтобы собраться с силами и начать кидать тарелки на пол (и камни в окна аудиторий)?
Десять лет назад в предисловии к жигулинским «Черным камням» можно было прочесть: КМП — «нелегальная антисталинская организация, целью которой была пропаганда идей марксизма-ленинизма».
Противоречивость этой характеристики была настолько нестерпима, что в последнем переиздании повести ее решили сменить:
«Они называли ее (организацию) коммунистической. Почему? В наглухо закрытой тиранической стране они просто не знали иной фтлософии. У них не было альтернативы. И опору против деспотии они искали в том же марксизме. В этом тоже была их трагедия».
Я думаю, это точно сказано.
Однако «трагедия» нестерпима; очень хочется, чтобы она как-нибудь обернулась прозрением. Каким? Развенчать «коммунизм». «Стабилизировать экономику». Лишить опоры «так называемый левый электорат». Тогда, может, и трагедии не будет?
Будет. Будет трагедия. Не в том задача, чтобы избежать ее, а в том, чтобы выдержать.
Молоденьким воронежским героям выпало не только протестовать против режима, опираясь на доктрину режима. Им выпало еще и мучиться всю оставшуюся жизнь сомнениями в том, на что же они должны были опираться.
Тогда они выдержали.
Как им выдержать теперь?
Вот и все — о полярных цветах поэта Анатолия Жигулина.



